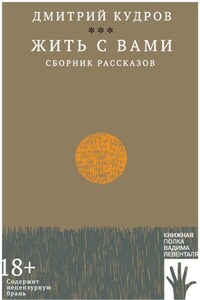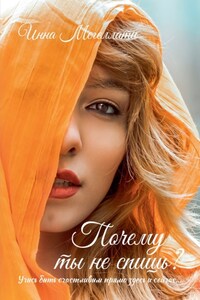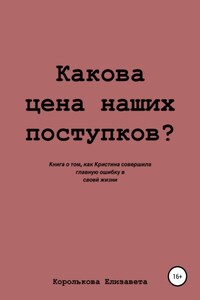Я спускаюсь к реке по опустевшей улице, и мне не о чем более думать: нет, я не утерял всякую мысль, я не утерял (как водится, по какой-нибудь поэтической причине) способность к мысли или (того глупее) предался чувствованию. Мне больше не о чем думать: все продумано (шутка, в некотором роде, фигура речи) до определенного (кем?) предела, и что за этим пределом, мне знать нет не только необходимости, но теперь и желания. По опустевшему городу я спускаюсь к реке – город съеден, как мысль, додуман до предела; у города нет края (он ширится домами-муравейниками – вчера край, а сегодня новый квартал: рядом автобусная остановка, супермаркет, детский сад, школа, больница, ипотека и хороший процент по кредиту, – он ширится кладбищами, кои, по мне, делать бы лучше подобно высоткам, только под землю их врыть, – низотки, домовины-муравейники, зеркальные кварталы, катакомбы и град подземный – не мысль, а маниловщина), как и у мысли, но есть граница, похеренное имя, забор, за который не ступи, не потому что нельзя, а потому что там не город, потому что негород. Всех загнала болезнь, и не сама болезнь, но страх, предчувствие – неживой город или город неживых, не знаю, как лучше (интересант). А между тем внезапная апрельская жара и сезон пыли – с востока тянет пески и зловоньем. Разложение и распад города, живописные руины, былое и трупы прошлого: сталинский ампир и брежневский модерн, николаевская русь-псевдорусь. Все по швам трещит: штукатурка осыпается, дерево гниет, бетон крошится. Милые развалины, я не то что привык – я люблю. И на дух не переношу новострой (врыть бы его в землю – мертвым мертвое). Может быть, потому, что в руинах я родился и я рос (взрослел и утверждался), (старел и осквернялся) я страдал среди новостроек. Я (некое обобщенное Я, которое больше всякого нечестивого «мы» и подлого «все») ничего, что не рушится, не гниет, не трещит, и знать не желаю: это не жизнь, это не к смерти. Можно даже положить это моим политическим манифестом, положить и забыть, потому что мне, человеку руин, чужды эти дурно пахнущие манифесты (в городе руин не осталось свободных мраморных плит для лозунгов, в городе руин не осталось гравировщиков).
Я иду вниз, я спускаюсь по спуску (зыбкая лестница, сквозь которую вольно растет трава, когда лето) вниз, в низину, в низовье, чтобы смотреть вверх, чтобы увидеть его, чтобы обозначить его – верх виден исключительно из низины, если только спуск не слишком крут и не ограничивает низину, наподобие перечеркнутой таблички, низина – неверх. И не лишь потому.
Я иду по ее следу, я преследую ее, я ищу ее. Ищу N. Ищу место, где бы N отсутствовала совершенно, где бы N не была вовсе, где N нет, где N зияет и опрокинута в высоту, потому наиболее зрима. Странное дело, обреченное дело, больное дело. Сплошная чепуха. Сумятица. Искать N в сезон пыли, когда сама она что пыль. Это я теперь определил, кажется, наверняка (дань великому стилю, а не ради красивого слога… что взять с жителя руин?).
Я всю (что есть) свою (и не только) жизнь (не сказать что патологически долгую, но субъективно длинную) отдал N, не поискам (ищи – не найдешь), но самой N (не сказать что нарочно, что по здравому разумению, но угодил в невольники – как бы иначе), я любовался ее всегда удаляющейся спиной, я поднимался и падал в вихре, образованном ее бегом, я слеп и прозревал в ее сокрытии (но кем? но кого?) – я не верил, но видел, видел со спины; со спины, когда пас овечьи стада под тенистыми сводами Александрийских стен или сдавал внаем детское тело свое ушлым американским искателям приключений в Танжере, когда от Самарканда гнал караван и задыхался от смрада следов, им оставленных, когда вытаскивал деньги из растопыренных карманов барыг и пьяниц в барах Нью-Мехико, сливал бензин на сибирбией заснеженных магистралях – опять же фигура речи, виподобная N. Но Ви существовала, по крайней мере, мыслилась таковой преследователем. N никогда не была или точнее всегда была каким-то недостающим образом (никогда полностью, но всегда в некоторой степени; в отличие от Ви, которая всегда уже была, N еще никогда не была, потому что полнота N говорила бы о моем отсутствии), и преследователь обречен, и преследователь раздавлен, и преследователь уничтожен самим преследованием – только так, не иначе – его должно разрушить, чтобы возникла N; в этом-то и загвоздка: N никогда не сможет быть утверждена. Фам фаталь. N – не распад, но N обнаруживается в распаде, N – не отсутствие, но N является в исчезании.
N, в некотором роде, – метафора, но только в некотором роде. Иначе ее не изъяснить. Возможно, погоня за N есть преследование при помощи метафоры, погоня за N подобна поэтическому акту, который некоторые называют ситуацией вдохновения или экстатическим восторгом. Только и это сравнение крайне неточное, крайне ущербное. Если я и уподобляюсь поэту, то исключительно ради упрощения задачи; если я и похож на поэта, то на поэта стыдливого – такого, которому противно и стыдно все поэтическое в нем, и не пастернаковским образом – сама преследуемая сущность отвергает поэтическое, она тяготеет (и это заключение на основе только непосредственного опыта) скорее к религиозному, не в смысле поклонения, а в смысле следования – робкого и решительного одновременно. Божественная интермедия (межсезонье, время пыли и пыльные времена – вынимаю том Валери поплакать; не знаю по-французски и пользуюсь авторитетом переводчика, своего рода тоже преследователя) и по-божески лечь головой меж двух подушек – застрял между пятым и двадцать пятым в низотке. Низотка, по распространенному среди низинщиков/низотчиков/ низунов мнению, есть место максимального убытия N, но мне пути туда нет, пока нет, все еще нет: ни пути, ни дороги, ни вэйа. У бытия за пазухой. Запазуха бытия. Показухино пузо.