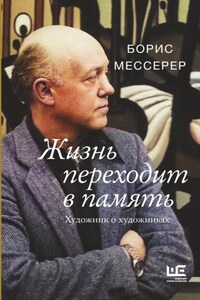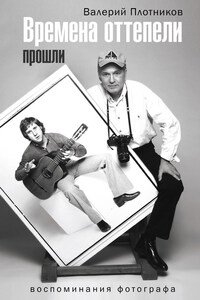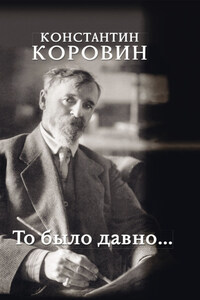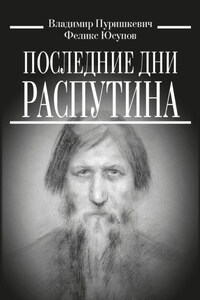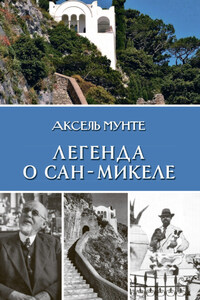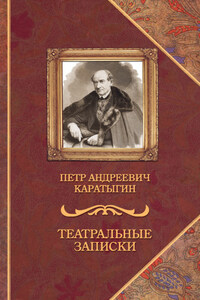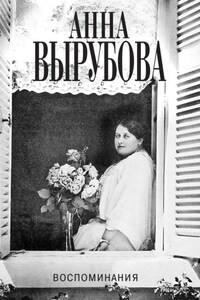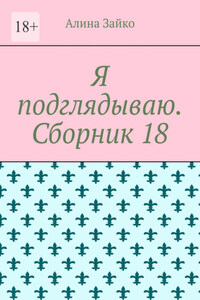Несколько слов, предваряющих текст
Сейчас, когда книга уже написана и ее верстка лежит передо мной, не могу избавиться от ощущения неполноты сделанного, кажется, что многое пропущено, не охвачено. Пусть читатель поверит в это мое состояние, способное подвигнуть на то, чтобы сесть и написать заметки о художниках заново. И лишь обязательства перед издательством удерживают меня от этого. На все нужно время.
Вспомнить и оценить встречи прошлых лет очень сложно. Надо было записывать вовремя! Но на это способен человек рассудительный, а не такой мятущийся и неуравновешенный, каким был я. Единственное, что могу поставить себе в заслугу (по итогам двух книг: “Промельк Беллы” и теперь – “Жизнь переходит в память. Художник о художниках”), – это масштаб охвата времени, в котором довелось жить, и то количество замечательных имен и образов, которые окружали и окружают меня до сих пор.
Записки мои о художниках, посвятивших себя живописи, графике и сценографии – этой замечательной, но причудливой профессии. Я выбрал имена людей наиболее значимые в этих сферах искусства – тех, кто жил и творил на моих глазах, в непосредственной близости, кто произвел на меня сильное впечатление и повлиял в той или иной степени на мое творчество. Все они – мои современники и близкие друзья, но читатель может быть уверен: речь пойдет только о прекрасных художниках.
Стоило начать писать, и возник вопрос: как рассказать о них? Давать ли анализ творчества или писать просто как о людях, моих товарищах? Думается, я нашел компромисс: я расскажу и о наших личных встречах, и о месте в искусстве и общественной жизни, не претендуя на то, чтобы дать исчерпывающие творческие портреты. Многих из этих людей уже нет на свете, и я считаю своим долгом вспомнить их имена и отслужить делу их памяти по мере моих сил.
Несколько слов о композиции книги, которую условно можно разделить на три части. Первая – затрагивает юные годы и мое становление как личности и как художника, отчасти происходившее в Поленове и Тарусе. Этому же посвящены воспоминания об Архитектурном институте и записки о встречах с Артуром Владимировичем Фонвизиным и Александром Григорьевичем Тышлером.
Дальше следуют имена Лёвы Збарского, Юрия Красного, Гены Трошкова. Встречи и дружба с ними тоже в своем роде ранние, но очень дорогие мне воспоминания.
Глава “Московские зарисовки” рассказывает о художниках, иногда сильно на меня влиявших, тем более что среди них есть и очень значительные фигуры. Я специально не выделяю их, чтобы они не подавляли другие, а существовали бы на равных. Все они, эти московские мастера, и составляют ту среду, в которой протекала моя жизнь, хотя я пишу о них по-разному, более или менее подробно. Как писал Б. Пастернак:
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Отдельная глава посвящена образу Ирины Александровны Антоновой.
А в третьей части появляются петербургские художники и картины. Я отвожу этой теме особое место, сообразно ее значению в моей жизни.
Памяти Наташи Грамолиной
По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.
А. Платонов. Джан
Летом 2019 года мы, как обычно, созвонились и договорились о встрече в Поленове с нашей многолетней (мы знакомы с семидесятых годов) подругой Наташей Грамолиной, директором музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова. Для меня усадьба художника – священное место, поскольку вся моя жизнь прошла в этих краях. Я имею в виду само Поленово и расположенную рядом Тарусу, которые воспринимаю как единое целое и считаю своей малой родиной.
Каждое лето, начиная с тридцатых годов, меня привозили сюда сначала ребенком, а потом я самостоятельно приезжал для отдыха и работы. И настолько сроднился со здешней обстановкой, что она стала как бы частью меня самого. Первые годы пребывания в Поленове были, по сути, единственной данностью, дарованной мне судьбой, а последующие – являлись уже моим выбором.
Я начал ездить после войны и эвакуации в эти края по старой детской памяти, да еще и потому, что здесь, в Поленове, был дом отдыха Большого театра, а мои родители могли покупать сюда путевки, тем самым решая еще и проблему питания. В 1954 году я писал отцу из Сухуми: “Вообще все, что происходит в Поленове, мне очень интересно, я сам хотел бы там сейчас быть. <…> Моя вечная история: как только я попадаю куда-нибудь на юг, у меня возникает тоска по Поленову и такого же рода местам под Москвой”.
Наташа Грамолина была супругой внука Василия Дмитриевича – Фёдора. Пройдя многотрудный жизненный путь, в том числе командование подводной лодкой, он стал (до Наташи) директором музея-усадьбы, наследуя эту должность. Он хорошо знал творчество своего деда, был человеком эрудированным, просвещенным и посвященным в тайны музейного дела. Я вспоминаю Фёдора молодого, еще до призыва в армию, потому что воспитывался вместе с ним одними и теми же людьми, зачастую домочадцами и родственниками Поленова – с ним была близка моя бабушка. В памяти звучит детское имя Фёдора – Федул. Потом следы его для меня затерялись. В моем поле зрения Фёдор снова возник, уже когда стал “большим” человеком, заседал в Верховном Совете РСФСР и очень хорошо там держался.