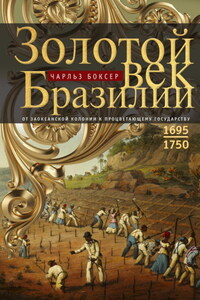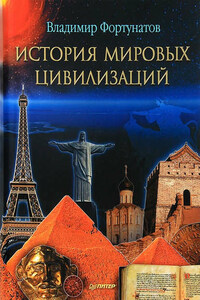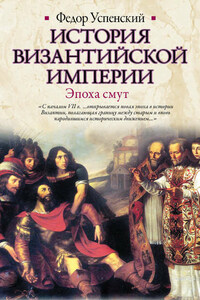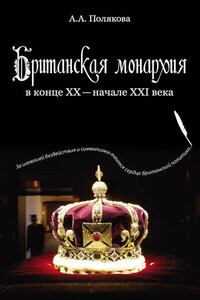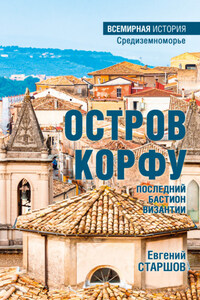Глава 1
Империя Южной Атлантики
«Ад для черных, чистилище для белых и рай для мулатов» – так называли португальцы Бразилию во второй половине XVII в. Это саркастическое высказывание какого-то неизвестного острослова, произнесенное им то ли в шутку, то ли всерьез, все же в целом правдиво. Негры-рабы выращивали сахарный тростник и табак, которые легли в основу бразильской экономики. Труд рабов использовался повсюду: в домашнем хозяйстве, на плантациях, в шахтах и на приисках. Можно утверждать, что рабство повлияло на повседневную жизнь в колонизируемой Бразилии более широко и глубоко, чем любой иной фактор. Плантаторы и священники, офицеры и чиновники – в общем, все образованные люди сходились в одном: без притока рабов с Черного континента Португальская Америка была бы нежизнеспособной. Наш рассказ о лузитанской империи в Южной Атлантике времен начала правления Педру II, ставшего официально королем в 1683 г., правильнее всего начать с рассмотрения вопроса о взаимосвязях Бразилии с Западной Африкой, которая была обширным рынком черных рабов.
Португальский колонист из Мараньяна так писал в 1730 г.: «Не в обычае белых людей в этих краях или в любой иной из наших заморских колоний заниматься физическим трудом; в этом случае они обычно используют рабов, ставя перед ними конкретную задачу». Почти теми же словами несколько лет спустя монах-августинец, имевший большой опыт работы в полевой миссии в Замбии, выразил свое мнение, что «местным уроженцам не подобает видеть, как португальцы занимаются ручным трудом». И таких цитат можно было бы привести множество. Однако будет вполне достаточно еще одной. Архиепископ Баии сообщал в Португалию в 1702 г., что в его епархии насчитывалось около 90 000 душ, из которых большинство были черными рабами, и что «белые, их хозяева, только указывают рабам, что они должны делать». Идея величия труда не была распространена ни в те времена, ни на протяжении многих последующих лет, тем более в тропических колониях европейских держав. С первых дней колонизации Бразилии раба обычно называли «руки и ноги» хозяина (или хозяйки), и почти все белые, кроме, возможно, самых бедных, использовали труд рабов. «За исключением людей самого низкого социального положения, – писал Уильям Дампир[1] в 1699 г. после месячного пребывания в Байе, – редко кто не держит в своем доме рабов». Те, кто не мог позволить себе приобрести черных рабов из Африки, обратили свой взор на аборигенов-индейцев, особенно это касалось бедных и отдаленных областей, таких как Сан-Паулу и Мараньян. Американские индейцы были охотниками и рыболовами и также могли быть проводниками в джунглях и во внутренних засушливых районах страны, называемых сертанами[2]. Они продолжали жить в каменном веке и не были готовы перейти к оседлой жизни. Поэтому их было невозможно использовать в качестве рабочей силы в поселениях белых, располагавшихся вдоль всего побережья. К концу XVI столетия стало ясно, что без труда негров-рабов не обойтись. Они трудились на плантациях и на сахарных заводах, в домашнем хозяйстве плантаторов; они были плотниками и корабелами, сапожниками и каменщиками и владели другими профессиями.
Не португальцы придумали работорговлю, со временем их в этом обошли голландцы и англичане. Но они были первыми, кто применил рабский труд на плантациях, и зачастую в больших масштабах. Большую часть рабов из Заладной Африки первоначально покупали на побережье Гвинейского залива, и их набирали в основном из племен Западного Судана. Затем центр торговли переместился южнее, в королевство банту в Конго, а после основания Сан-Паулу-ди-Луанды в 1575 г. – в португальскую колонию Анголу, включая основанный позднее город-порт Бенгелу. В 1591 г. местный чиновник восторженно писал, как ему казалось, о неограниченных возможностях этого рынка «черной кости». Он уверял Лиссабон, что внутренние области Луанды так густо населены, что обильный поток рабов не прекратится «вплоть до скончания века». Однако менее чем столетие спустя власти уже жаловались на серьезное падение численности населения Анголы в результате внутренних войн, непосильного труда, отправки за океан рабов и частых эпидемий оспы.
Несмотря на уменьшение числа рабов на некогда самом большом невольничьем рынке Африки, португальцы в Бразилии продолжали завозить большую их часть из этого региона. Кроме всего прочего, для них было дешевле покупать рабов в Анголе, где они контролировали побережье и не имели соперников в лице иных держав. С побережья Гвинейского залива их со временем вытеснили голландцы, а из других мест – англичане. Португальцы все еще владели Кашеу и Биссау, которые были расположены напротив островов Зеленого Мыса, и могли торговать с Нижней Гвинеей, имея свои базы на островах Сан-Томе и Принсипи. Но их торговле в заливе препятствовала могущественная и агрессивная голландская Вест-Индская компания.
Рабовладельцы в Бразилии не были единодушны в оценке, какие рабы были самыми лучшими – родом из суданских племен в Гвинее или банту из Анголы. Спрос на рабов, как на любой иной товар, то повышался, то падал. Рабы-суданцы, как правило, были более сообразительными, физически сильными и работящими (когда они действительно хотели работать). Но в то же время были непокорными и менее расположенными мириться с рабской участью. Банту, наоборот, легче привыкали к своему зависимому положению, были более открыты в общении, но не были столь здоровы, чтобы легко переносить болезни.