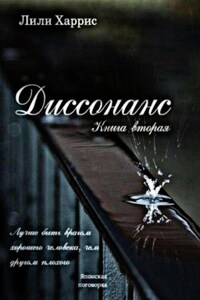Тюрьма Эвин, Тегеран
Сжавшись в комок у стены, Азар сидела на стальном полу фургона. Дорога была неровная, фургон качало из стороны в сторону, трясло – вместе с ним тряслась и Азар. Свободной рукой она нащупала что-то вроде поручня и крепко в него вцепилась, другой рукой придерживала свой вздутый, напряженный живот. С каждым толчком машины живот подбрасывало; Азар с трудом дышала от его тяжести. По телу прошла жаркая волна боли, зародившись где-то у основания позвоночника; девушка ахнула и изо всех сил вцепилась в чадру. С каждым поворотом Азар швыряло о стену, на каждом ухабе, на каждой выбоине бросало к потолку – и она чувствовала, как испуганно сжимается во чреве ее малыш. Повязка на глазах промокла от пота.
Подняв руку, Азар вытерла влагу с глаз. Снять повязку она не осмеливалась, хоть рядом с ней в кузове фургона никого не было. В стенке у нее за спиной окошко – она нащупала рукой стекло, когда поднималась сюда. Что, если Сестра заглянет в окно? Что, если фургон резко остановится и Азар не успеет снова надеть повязку?
Что случится, если ее застанут с открытыми глазами, Азар не знала – и выяснять не хотела. Порой она пыталась себя убедить, что для постоянного страха, гнездящегося внутри, страха, с которым она уже сжилась и срослась, нет оснований: ведь на нее никто еще ни разу не поднял руку. Ей нет причин бояться Братьев и Сестер! Но есть еще крики. Крики сотрясают стены тюрьмы, разносятся по пустым коридорам, будят заключенных по ночам, прерывают их обеденные разговоры – и погружают в тяжелое, напряженное молчание, длящееся до самой ночи. Откуда доносятся эти крики, никто не осмеливается спросить. Ясно одно: это крики боли. Пронзительные вопли терзаемого тела, лишенного разума и души, всеми покинутого, раздавленного, дрожащего комка мяса, которому оставлен лишь один признак бытия – способность нарушать тишину. И кто знает, когда настанет твоя очередь? Когда тебя уведут по коридору – куда-то, где от тебя не останется ничего, кроме крика?
Из крохотного отверстия над головой доносился приглушенный шум просыпающегося города: открываются ставни, гудят машины, смеются дети, громко расхваливают свой товар уличные торговцы. Спереди, из кабины грузовика, слышались веселая болтовня и смех: один из Братьев что-то рассказывает, а Сестра пронзительно смеется. Эти звуки Азар старалась отсечь и сосредоточиться на звуках города – родного Тегерана, который уже несколько месяцев не видела и не слышала. Спрашивала себя, как изменился город сейчас, на третий год войны с Ираком. Затронула ли его война? Уезжают ли люди? Судя по шуму снаружи, не изменилось ничего: тот же многоголосый гул и гомон, те же беспорядочные звуки бедной и трудной жизни. А где-то сейчас ее родители? Мать, должно быть, стоит в очереди за хлебом, отец оседлал мопед и едет на работу… При мысли о них горло сжалось.
Азар запрокинула голову и широко раскрыла рот, ловя призрачное дуновение свежего воздуха. Вдохнула несколько раз – так глубоко, что закашлялась. Развязала тугой узел хиджаба под подбородком, дала чадре соскользнуть с головы. Она сидела, прижавшись спиной к стене, держась за поручень, стараясь поменьше трястись и качаться вместе с машиной, когда еще один приступ боли пронзил ее, словно огненным мечом. Азар вцепилась в поручень и постаралась сесть прямее. Мысль, что ребенок родится на этом железном полу, посреди ухабистой дороги, под пронзительный смех Сестры, привела ее в ужас: глубоко вдохнув, она крепче сжала поручень и постаралась сжаться сама, не дать хлынуть наружу тому, что переполняет ее изнутри. Нет, нельзя рожать, пока они не доедут до больницы!
Однако усилия были тщетны. Между ног словно что-то прорвалось, и щекотная влага потекла по бедру. В страхе Азар откинула чадру и начала кончиками пальцев ощупывать свои ноги. Она знала, что в какой-то момент у роженицы отходят воды, но плохо представляла, что должно произойти дальше. После этого – сразу роды? Или не сразу? А если это опасно? Она только начала читать книги о беременности и родах, когда за ней пришли. Немного не дошла до главы о водах, схватках и о том, что брать с собой в роддом, когда несколько кулаков заколотили в дверь. А потом на нее надели наручники и увели с собой – молодую женщину с уже обозначившимся животом.
Азар стиснула зубы; сердце отчаянно колотилось. Если бы рядом была мама! Мама, с доброй улыбкой, ласковым низким голосом объяснила бы ей, что происходит. Успокоила бы, сказала, что бояться нечего. Если бы у Азар осталось хоть что-нибудь от мамы – клочок платья, хиджаб, что-то, что можно сжать в руках! Тогда ей было бы легче.
А Исмаил? Исмаил сидел бы рядом, держал ее за руку и говорил, что все будет хорошо. Хотя сам был бы напуган до ужаса. Азар представляла, как муж смотрит на нее своими яркими карими глазами – так, словно хочет вобрать в себя всю ее боль. Собственную боль он переносил стойко, но боль жены повергала его в отчаяние. Когда она залезла на стул, чтобы оборвать виноград с высокой ветки, и упала, он едва не зарыдал, увидев, как она корчится на земле. Уложил ее на диван, сжал в объятиях и долго не хотел отпускать. «Я уж думал, ты спину сломала! – сказал он потом. – Если с тобой что-то случится, я не переживу!» И казалось, его тревога, его беспокойная любовь делает Азар неуязвимой и бессмертной, прочной, как гора. Глядя в глаза мужа, Азар верила, что с ней ничего не случится. Успокаивая его, успокаивала и себя.