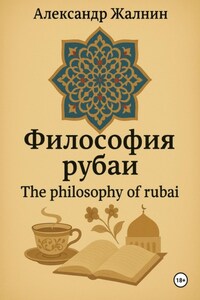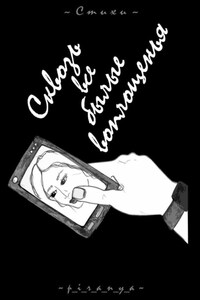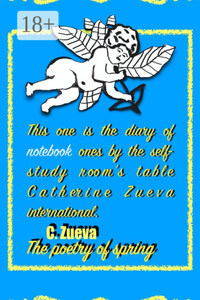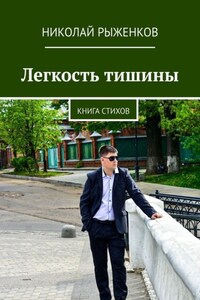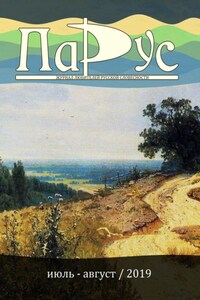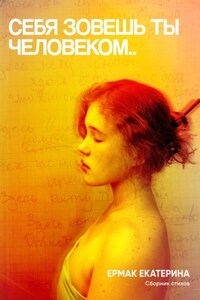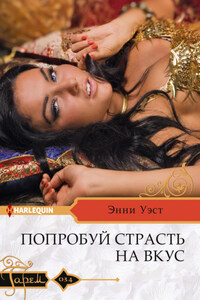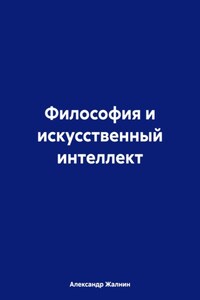О тематике, стиле, художественных и философских приёмах, а также о ключевых образах и мотивах, повторяющихся во множестве рубаи.
1. Жанровая и стилевая основа
Рубай традиционно представляет собой четырёхстрочное стихотворение (часто на персидский манер, но в русскоязычной традиции возможно свободное отношение к строгой схеме рифм). А. Жалнин следует этой форме формально (четыре строки), но по ритму и рифмовке встречается как классическое смежное/опоясывающее созвучие, так и более свободные, разговорные интонации.
Автор явно опирается на традицию Омара Хайяма: в ряде рубаи есть прямые отсылки к «вину» (зачастую в образе «водки» или как он её ещё называет, «талка»), к философским беседам о бренности бытия, к поиску истины и «погружению» в мудрость через поэтические ироничные четверостишия. Не раз прямо упоминается сам Хайям и его «дух» «рубая» или же присутствует сцена «Хайям мне приснился» и т.п.
2. Образ «талки» и мотив вина
У Хайяма «вино» – сквозной символ наслаждения жизнью, символ правды, пророческого или философского опьянения. У А. Жалнина аналогичную роль играет и «водка», «талка» (часто появляющийся как аллегория: то ли «горячительное», то ли почти «живая вода», приобщающая к познанию и свободе мысли).
Во многих рубаи талка предстает как женский образ («Красавица-талка»), соблазн, «огненная влага», способ «заменить» вино Хайяма. Встречаются неожиданные параллели: «любовь есть дурман, и талка дурман», «водка есть душа творца», «если бы Хайям знал талку, вино бы забыл» и т. п. Эти образы часто обыгрываются с иронией и сарказмом, при этом остаются философским знаком: «погружение в опьянение» у автора – не просто уход от реальности, а способ обострить или приоткрыть некую истину.
3. Основная проблематика и философские мотивы
Поиск истины и её относительность. Автор иронично ставит вопрос: «что есть истина?», «где правда и ложь?», показывает, что человеку свойственно так и не доискаться абсолютных ответов.
Бренность бытия и тема смерти. Рубаи пропитаны размышлениями о конечности человеческой жизни: «Может быть, завтра день для меня не наступит…», «Что должно случиться – случится», «Мы внезапно пришли и внезапно уйдём». При этом тон меняется от грустно-философского до почти игрового: смерть осмысляется как нечто, что «пробуждает» мысль, заставляет ценить жизнь.
Свобода и недеяние (отсылки к Лао-цзы). Целый цикл (или значительный пласт) рубаи напрямую связан с философией даосизма: автор цитирует или пересказывает идеи Лао-цзы о «недеянии», «пути» (Дао), «добродетели» (Дэ), противопоставляет их европейской традиции или просто обыгрывает в шуточном тоне.
Скепсис и ирония в отношении к религии, святошам, морализаторам.Встречаются пьющие святоши, недовольные проповедники, противопоставление «поэта» (с его вдохновением, спорами) и «святоши» (который обличает грехи, требует некоего праведного поведения). Но у автора нет однозначного осуждения или насмешки – это скорее лёгкая насмешливая критика догматизма и лицемерия.
Поэт, философ, критик, святоша – типичные персонажи, которые «спорят» внутри многих четверостиший. У каждого из них свои претензии к миру:
– Поэт ищет «вдохновения», жаждет иногда похвалы, но одновременно высмеивает её как пустую.
– Философ «не боится» никаких табу, упивается спором, однако может закапываться в умствованиях.
– Святоша упрекает поэта за пороки и пьянство, но сам выглядит узколобым моралистом.
Эта «игровая» композиция позволяет автору сатирически высвечивать разные мировоззренческие позиции.§ Критик (или Зоил) появляется как внешняя сила, ругающая или хвалящая стихи.
4. Художественные приёмы
Ирония и сарказм. Практически каждое четверостишие содержит неожиданную шутку, афористичный поворот или «выворот». Идёт осознанная «игра смыслов», где в последних строках зачастую заложен парадокс.
Апелляция к великим именам (Хайям, Парменид, Гераклит, Лао-цзы, Гегель и др.). Часто всё это смешивается в «единый узел» – одновременно священные тексты, древние философы и собственный вымышленный напиток «талка».
Противопоставление «серьёзного» и «пародийного». Нарочитая «бытовая» лексика («боты», «аватар», «шумят селяне», «шахматы» и т. п.) смешивается с возвышенно-философским слогом о бессмертии, душе, истине. Возникает эффект «хулиганской» философской поэзии.
5. Темы любви и наслаждения жизнью
Любовь у Жалнина часто предстаёт как взаимная страсть, которая «пробуждает землю», которая «не бывает без взаимности». Но сразу может сменяться насмешкой над ревностью, быстротечностью чувств, над попыткой «поймать любовь» через интернет или, наоборот, над серьёзными страданиями из-за ухода возлюбленной.
Как и в классических восточных рубаи, любовь у него плотно связана со вкусом к жизни (будь то любовь к женщине, к вину/талке, к творчеству). Порой эта любовь уравнивается с божественным началом, порой – выставляется обманом, «дурманом», но «спасительным» для человеческой души.
6. Социальная и бытовая сатира
Автор не чурается комментировать политику, общественную жизнь: волки и бараны (аллюзия на власть и «народ»), рассуждения об олигархах, сельских смутах, чиновниках.