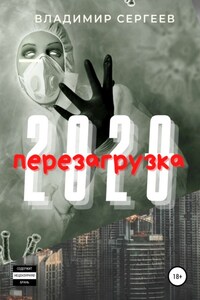Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
Ни даже имени такого
Не смею громко произнесть!
[1]Это четверостишье Пушкин записал в альбом Анны Петровны Керн. Стихи Баркова – вовсе не стихи того самого Баркова, который до сих пор известен прежде всего как поэт-порнограф. И Барков здесь – не тот самый Иван Семенович Барков, а его однофамилец Дмитрий Николаевич Барков, петербургский чиновник, театрал, переводчик, член общества «Зеленая лампа», знакомый Пушкина и А. П. Керн. Пушкинская шутка – комическая гримаса мнимого ужаса: Барков – воплощенная неблагопристойность, даже его имя нельзя произнести при даме. А впрочем:
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом (III, 155).
Нет, имя Баркова не умерло. Его срамная поэзия живет и увлекает всё новые поколения читателей. Известные творения поэта XVIII века по понятным причинам не печатались, но распространялись во множестве списков, «получили народность» и более того – умножались всё новыми и новыми сочинениями, Барковым не написанными, но ему приписанными. (Скажем сразу: «Лука Мудищев» – не Баркова, а другого охальника сочинение.) Так было и в XVIII, и в XIX веках. Наконец, на исходе XX столетия стихотворения Баркова, и даже те, что ходили под его именем, предали тиснению, изучили, откомментировали. Казалось бы, сбылось пророчество Пушкина, который, беседуя с Павлушей Вяземским, сыном П. А. Вяземского, сказал:
«Вы не знаете стихов… Баркова… и собираетесь вступить в Университет? Это курьезно. Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской литературе; стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значение… Для меня сомнения нет… что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова»[2]. Так-то оно так, но и в этом разговоре Пушкин шутит. Рекомендация юному другу непременно прочитать стихи Баркова, коль скоро он собирается стать студентом, сродни настоятельным наставлениям гусарского офицера Зурина, советующего Петруше Гриневу привыкать к службе, а именно пить пунш и играть на биллиарде (на деньги, конечно). Так что не будем излишне серьезно воспринимать и пушкинскую высокую оценку Баркова, и признание огромного значения его сочинений. Вероятно, в этом есть шутливое преувеличение.
И всё же, шутки шутками, а Баркова и барковиану действительно издали, причем издали с максимальной полнотой. Ну и что? Поклонники такого рода литературы получили возможность многократно в разных вариантах прочесть зарифмованное слово из трех букв, которое всё еще можно увидеть на заборах, на стенах грязных подъездов и сортиров. Но, во-первых, не будем ханжами, а, во-вторых, в изданиях сочинений Баркова есть и вполне пристойные стихотворения, есть переводы Горация, Федра, других авторов, труды по российской истории. К тому же Барков был еще издателем и редактором, первым издал сатиры Антиоха Кантемира, присовокупив к ним жизнеописание сатирика. Так что творческое наследие Баркова несомненно требует осмысления, как нуждается в изучении и его биография. Увы! Нам недостает многих достоверных сведений, документов. Ведь даже имя его отца, петербургского священника, в разных источниках названо по-разному: то ли Иван, то ли Степан, но всё же скорее всего Семен. Как звали его матушку, мы не знаем.
С Барковым (его фамилия писалась и как Борков) связано много легенд.
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот – и веселый свист.
Покатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист
[3].
Барков, как и живший более полутора веков спустя Есенин, поэтическое признание которого приведено выше, не сводится к «дурной славе». Да, были драки и пьяные дебоши, были трактиры и бордели. Но что стояло за драками, пьянством и распутством? Кто вы, господин Барков?
К настоящему времени «баркововедение» достигло значительных успехов. Появились научные публикации, посвященные Баркову – ученику М. В. Ломоносова (интересно!), его роли в литературной полемике, в которой участвовали Ломоносов, А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский (очень интересно!), его работе издателя и комментатора (очень познавательно!). Исследователи не только России, но и других стран опубликовали статьи о жанровом и стилистическом новаторстве Баркова, о его экспериментаторских поисках, о его диалоге с европейской литературой.
В защиту Баркова выступила «дружина ученых и писателей», которая, по словам Пушкина, «всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности» (VII, 137). Правда, «дружина писателей» – в данном случае может быть слишком сильно сказано. Но всё же знаменательно, что о Баркове писали прозаики, драматурги, поэты XX века.
Андрей Битов написал культурологическое эссе «Барак и барокко (Барков и мы)».
Леонид Зорин в пьесе «Царская охота», которая долгое время не сходила со сцены, была экранизирована, сочувственно отозвался с помощью своего персонажа – пиита Кустова о Баркове:
«Ах, Боже святый, что за кудесник, таких уж нет. Все помнят одни срамные вирши, а знали б его, как знал его я! Как мыслил, судил, как верен был дружбе, а как любил безоглядно! Высокий был, ваше сиятельство, дух…»