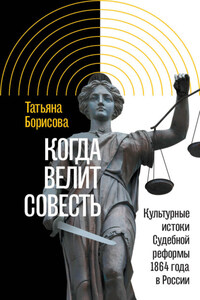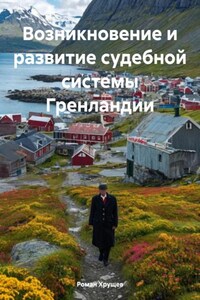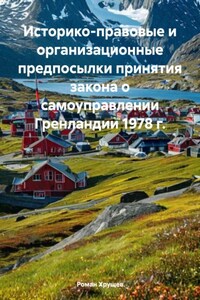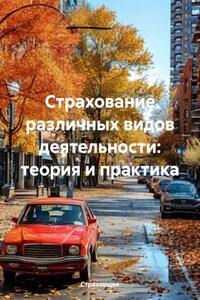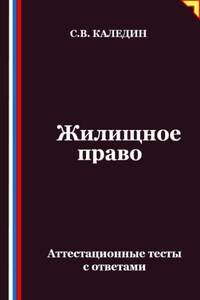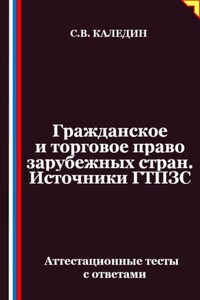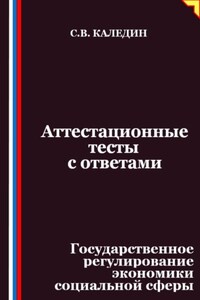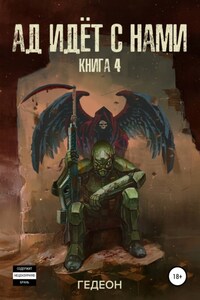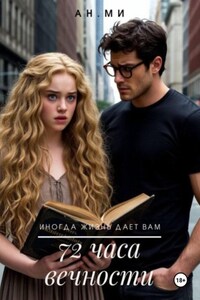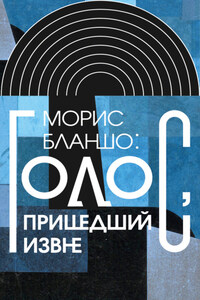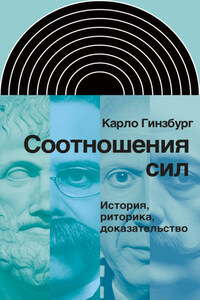УДК 340(091)«1864»
ББК 63.3(2)522-36
Б82
Редакторы серии «Интеллектуальная история»
Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
Рецензенты:
Д. А. Бадалян, кандидат исторических наук
В. С. Парсамов, доктор исторических наук
Д. Ю. Полдников, доктор юридических наук
Д. В. Руднев, доктор филологических наук, кандидат исторических наук
Татьяна Борисова
Когда велит совесть: Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России / Татьяна Юрьевна Борисова. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).
Судебная реформа 1864 года стала попыткой радикальных преобразований российского общества, причем не только в юридической, но и в нравственной сфере. Начиная с 1830‑х – 1840‑х годов в публичном дискурсе человек, государство и его законы стали связываться сложной сетью различных понятий и чувств, а «долг совести» и «чувство истины» стали восприниматься как доступные всем сословиям средства этической ревизии русской жизни. В центре исследования Татьяны Борисовой – понятие совести, которое вступало зачастую в противоречивые отношения с понятием законности. Почему законность и судопроизводство в Российской империи стали восприниматься значительной частью образованного класса как безнравственные и аморальные? Как совесть получила большую преобразовательную силу, действие которой оказалось непредсказуемым для самих реформаторов? И почему порожденная переменами судебная практика стала ярким явлением русской культуры, но в то же время замедлила формирование правового самосознания и гражданского общества? Татьяна Борисова – историк, доктор права, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
В оформлении обложки использована фотография статуи Юстиции над входом в здание суда округа Скотт в Джорджтауне, Кентукки. Фото: Carol M. Highsmith, 2020. Carol M. Highsmith Archive. Library of Congress.
ISBN 978-5-4448-2815-1
© Т. Борисова, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и для граждан» – так надписал ее искусный составитель, – но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей».
Н. С. Лесков. Кадетский монастырь.
Государство права и государство совести
В истории России есть прекрасная страница – золотой век русского суда. Этот краткий век начался и закончился в царствование Александра II (1855–1881) вместе с одной из самых радикальных из его реформ – Судебной реформой 1864 года. До сих пор эпоха Великих реформ считается самым либеральным временем в истории Российской империи. Их масштаб был поистине грандиозным: отмена крепостного права, радикальное ослабление цензуры, политика гласности, институты самоуправления – и над всем этим независимый суд. В нем судьи получили автономию от административной власти, были введены открытый для публики состязательный процесс и суд присяжных. У прогрессистски настроенных современников складывалось впечатление, что впервые в российской истории судебная власть проектируется как независимая ветвь самодержавного правления, что представлялось им необходимым и закономерным.
Действительно, реформы Александра II воспринимались современниками как реальная и вполне осуществимая программа мирного переустройства старого имперского порядка в современное «культурное», как тогда говорили, государство. Независимая печать и независимый суд должны были сыграть ведущую роль в этом постепенном переустройстве, привлекая к нему читающую публику. Печать должна была объективно показывать, какие явления общественной жизни требуют внимания, а обновленная система правосудия – обеспечить «скорые и правые» судебные решения.
Предусмотренная законами открытость и гласность прессы и суда должны были стать средствами достижения справедливости и если не согласия, то гражданского мира после тяжелой Крымской войны (1853–1856). Понятие «гласность», почти забытое сегодня со времен Перестройки 1985–1991 годов, было центральным и для программы Великих реформ. В нем выразилась основная идея преобразований: власть и подданные, услышав друг друга1, должны прийти к некоторым «согласным» действиям, направленным на эффективное управление в условиях модернизации, которой неизбежно сопутствовал рост самосознания образованных подданных.
Многочисленные покушения на императора-освободителя и его убийство в 1881 году показали, что не все подданные хотели согласия на предложенных условиях. Согласие2 подразумевало взаимное доверие и взаимную ответственность, но в условиях опасности для престола на первый план выступала демонстрация эффективной и неограниченной самодержавной власти. Репрессии против радикалов с начала 1860‑х годов, усиление цензуры и постепенное распространение с 1879 года военного положения на большинство российских губерний вели к усугублению кризиса согласия. Был ли он неизбежен? Какую роль в этом кризисе сыграл новый суд, на который возлагали большие надежды?