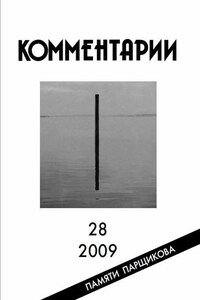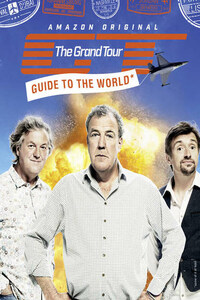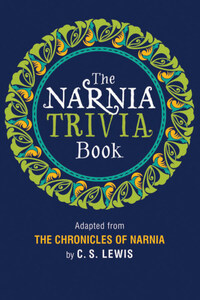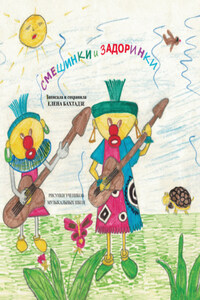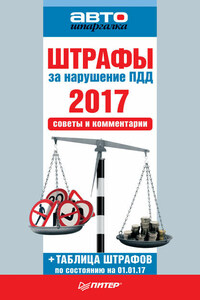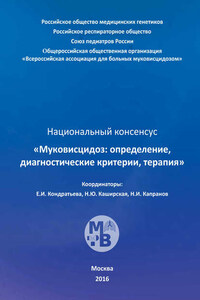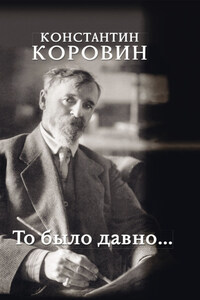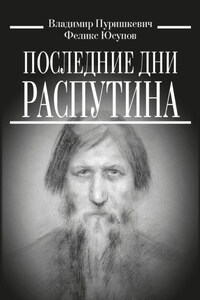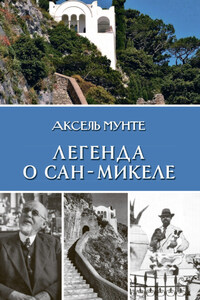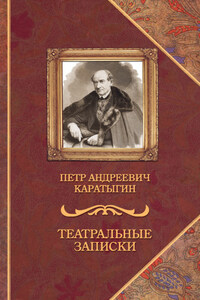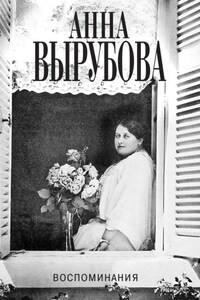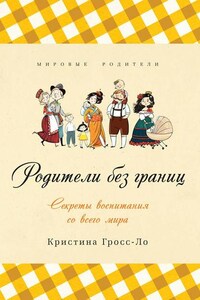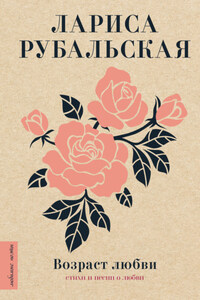Этот номер, посвященный памяти недавно ушедшего поэта Алексея Парщикова, одного из инициаторов и активного участника журнала «Комментарии», подготовлен и выпущен совместно с книжной серией «Русский Гулливер».
Благодарим вдову Парщикова Екатерину Дробязко, предоставившую материалы из его архива.
Письма и наброски Парщикова публикуются в авторской орфографии и пунктуации, кроме явных опечаток.
На лицевой обложке – фрагмент фотографии Алексея Парщикова.
Фотография на обороте лицевой обложки – из архива Олега Нарижного.
Фотография на обороте задней обложки – Екатерины Дробязко.
Остальные фото – Михаила Зелена.
Оформление номера при участии художника Владимира Сулягина.
Макет номера Павла Сандомирского.
Владимир Аристов
Эпические рати Алексея Парщикова
Однажды в разговоре с ним я, пытаясь пошутить, сказал, что фамилию Парщиков можно было бы выводить из слова «пара», поскольку он созидатель пар, «сдваиватель», коммуникатор, тот, кто находит небывалые метафоры и тем самым создает новые слова, ибо пара соединенных образов – это есть, по сути, новый завершенный знак. Он отнесся к этим словам более серьезно, чем, наверное, они того заслуживали. Сейчас так трудно произносить нечто о его уходе – но произнести надо, иначе разрыв в образовавшемся поэтическом зиянии станет слишком велик, и надо отвечать тем же, чем отвечал он – соединяющим словом. Несмотря на смятение, которое неизбежно отразится в тексте, как бы мы не пытались что-то стройное построить, все же горячее чувство потери не должно помешать выразить важнейшие вещи, – в наших словах о нем.
Надо писать о том, какого уровня поэта мы потеряли – и обрели окончательно, ибо таким событием утверждается несомненное. Превозмогая немоту, говорить, потому что не все даже сейчас могут оценить сущность его не только как создателя совершенно новых изобразительных структур, но и поэта в понимании самом классическом – античном, ибо в аристотелевской поэтике говорится о переносе (т.е. метафоре) как о важнейшем признаке стихотворной силы, – такую способность нельзя перенять у другого, это признак лишь собственного дарования, – для этого надо видеть сходное в предметах. Алеша, как поэт, обладал этим свойством как никто другой. Он был одним из сильнейших создателей образов (он всегда использовал такое понятие, хотя прекрасно осведомленный о формальных изысканиях последнего века, понимал, что слово «образ» многие пытались отринуть). «Если б ты знал, сколько метафор появилось у меня из-за ошибок зрения», – говорил он мне. Но такие «ошибки» и находятся у истоков микро- и макро-открытий. Поскольку нового нет, его просто неоткуда взять. Нужна первичная флуктуация, как зерно небывалого. Алеша знал и что такое знание нельзя получить из рук в руки, но лишь как дар свыше, который, впрочем, надо еще обнаружить в себе, поверить в него, не потерять и развить.
Воспоминание от строк его стихов в блуждающих воспоминаниях возвращается к каким-то мгновениям многих состоявшихся и несостоявшихся встреч. Вижу его на одних и тех же улицах Москвы, в переулках улицы Горького, где мы бродили. Дружеские встречи и совпадения взглядов, взоров, образов – помню весной 84-го, когда он заканчивал большую поэму и я тоже, там у него в Ясеневе мы читали друг другу еще не завершенные строки, узнавая знакомые движения и формы другого у себя. Встречи, которые могли и не произойти: на Курском вокзале я вскочил в уже отошедший поезд, и на утро в Полтаве, встречая меня, Алеша с Ильей Кутиком говорили, что им точно казалось – я не приеду. Или когда я ехал из Геттингена в Кельн, и поезд загорелся вблизи Ганновера, поезд дошел все же, пусть и с большим опозданием. И Алеша встретил меня, хотя уже предполагал разное. Он дарил людей людям, образы – образам, открываясь новому и иному. Дарил другим любимых своих поэтов (я старался быть взаимным), он говорил мне об Уоллесе Стивенсе, я ему – о Сеферисе и других великих новогреках.