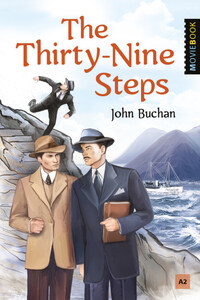1
Эрве Жуандо вынырнул из густого тумана с булыжником в руке, держа его на манер дискобола. В такие моменты сравнение с атлетами древности юношу не пугало. Сквозь слезы, туманившие глаза, он увидел впереди, метрах в ста, плотную шеренгу спецназовцев.
Остроконечные шлемы, туго подпоясанные плащи, выставленные вперед щиты, до смешного похожие на крышки мусорных баков… Застыв в облаке слезоточивого газа, Эрве выгнулся, напряг мускулы и прижал кулак с булыжником к ключице – ну вылитый герой античного стадиона!
– Давай, Эрве!
– Врежь им прямо в морду!
– Целься в глаза!
Эрве ликовал: в этот момент он – один против врагов на этом шоссе, заваленном мусором, – чувствовал себя достойным наследником длинной череды повстанцев былых времен: 1789 года, 1832-го, 1848-го. Парижская коммуна… Мятеж у французов в крови – их история писалась под знаком протеста и жестокости. И вот теперь он, Эрве, стал их новым героем!
Размахнувшись, он метнул свой камень, стараясь забросить его как можно дальше. «Прямо вам в морды, сволочи!» Сейчас он ощущал себя таким же легким, как его булыжник, таким же победоносным, как крики «ура!» за своей спиной, и таким же грозным, как гул этого сражения на Лионской улице[1].
Миг спустя Эрве услышал звонкий стук: это его «снаряд» попал в чью-то каску; до чего ж меткий удар! Камень, перелетевший через фланговые ряды спецназовцев, достался кому-то стоявшему сзади.
Ага-а-а, получай! Непонятная, беспричинная ярость, смутное удовольствие – разрушать все подряд, просто так, неизвестно зачем… И чисто детская радость: попасть в цель, как при игре в шары. Позади раздались восторженные крики: «Молодец, парень!» Два месяца назад, в марте 1968-го, нью-йоркский художник Энди Уорхол написал: «В будущем каждый человек получит право на пятнадцать минут славы». Сомневаться не приходилось: вот они и пришли – его пятнадцать минут! Он застыл на месте, упиваясь этим мгновением. Воздух был насыщен удушливыми аммиачными парами. Булыжники, вывернутые из мостовой, догоравший мусор, лужи – все, абсолютно все выглядело так, будто настал конец света. This is the end, beautiful friend…[2]
Но ответная атака не заставила себя ждать. Под грохот выстрелов и взрывов гранат Эрве отступил и короткими перебежками добрался до груды мусора – битой штукатурки, сломанных ящиков, вырванных секций садовых оград, – взобрался на эту баррикаду, ободрав по пути колено, и спрыгнул наземь по другую ее сторону. Раздались аплодисменты.
Он обливался пóтом под несколькими свитерами, которые натянул на себя, чтобы смягчить удары полицейских дубинок. Плюс, конечно, душевный подъем. Сейчас у него мутилось в голове.
Где он?.. Какой нынче день?..
С начала месяца страницы календаря пылали, уносясь легкими хлопьями пепла вместе с демонстрациями, забастовками и AG[3], – трудно даже вспомнить все, что было…
И вообще – какой нынче день?
Ах да: сегодня же 24 мая 1968 года, и на Лионском вокзале в семь вечера объявлен новый сбор. Неизвестно даже, кто этим руководил. Хотя… наверняка те же парни, что и 22 марта. Конечно, UNEF[4]. А также МЛ – марксисты-ленинцы… Поводом для сходки именно в этот день стал запрет на возвращение во Францию Даниэля Кон-Бендита[5], главаря восстания, который после победного начала борьбы здесь, в Париже, уехал в Германию за поддержкой.
Прошел слух, что его поездку финансировала газета «Пари матч» в обмен на несколько фотографий. Намек ясен? Власти воспользовались этим, чтобы объявить его персоной нон грата на территории Франции. Крайне неудачная затея – она только подлила масла в огонь. Немедленно было решено организовать новую демонстрацию, с участием рабочих и знаменитых кинодеятелей, чтобы потребовать согласия на возвращение Кон-Бендита во Францию. Но почему именно на Лионском вокзале? Это для всех оставалось загадкой. По чистой случайности – а может, из стратегических соображений – на этот вечер было назначено радиовыступление президента де Голля. В двадцать часов манифестанты собрались у Часовой башни[6], чтобы «послушать Старика». Генерал говорил монотонно, дрожащим голосом побежденного. И предлагал провести референдум – с целью выяснить, должен ли он оставаться у власти. Ответ собравшихся был единодушным. Все вынули носовые платки и замахали ими, скандируя: «Прощай, де Голль!»
Затем началась полная неразбериха. Никто из пришедших не знал как следует правого берега Сены. Что делать – остаться на месте, отправиться в Латинский квартал? Или разойтись по домам? Разумнее всего было бы тихо-мирно исчезнуть из поля зрения властей, но последние несколько недель никто в Париже не был способен поступать разумно. Добрые старые рефлексы бунтовщиков одержали верх над благоразумием. И толпа хлынула на Лионскую улицу, скандируя: «Де Голля – в отставку!», «Кон-Бендита – во Францию!», «Мы все – немецкие евреи!». Эрве шагал во главе процессии. Он не мог точно определить количество собравшихся, но все это скопище орало дружно, в унисон, как один человек. Так сколько же нас здесь – десять тысяч, двадцать, а может, и все тридцать?..