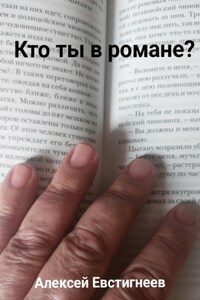I. Меня забирают
Тогда была математика. Это я помню особенно отчётливо. С лицами, раскрасневшимися после физкультуры, мы влетели в класс с последним звонком, бросили сумки на парты, едва не проломив ими столешницы. Мыслями мы ещё были в футбольном матче: всего десять минут назад мы сражались не на жизнь, а на смерть, как будто на кону был не меньше Чемпионат мира, – а теперь вынуждены сорок пять минут сидеть на жёстких стульях и вертеть в мозгах цифры и символы. В душе было и без того кисло, запал от игры постепенно испарялся, а его место занимал колючий страх, что могут вызвать к доске.
Как только переступил порог класса, я вспомнил, что не сделал домашку. Руки похолодели от ужаса. Перед глазами тут же встала картина: училка проводит карандашом по списку в журнале и останавливается на моей фамилии. Вызывает со словами: «давно ты у доски не был, надо тройку исправлять». С трудом поднимаю отяжелевшее тело, опираясь на парту, пытаюсь сглотнуть, но почти нечем – в горле пересохло, как в Сахаре. Как могу, тяну время: почти спотыкаюсь о собственные ноги, вспоминаю, что забыл на столе тетрадку, возвращаюсь. Лихорадочно соображаю, как бы отвертеться, что сказать в своё оправдание. Домашняя работа в другой тетради? Забыл дома? Съела собака? Так у нас собаки-то нет, не прокатит. Ну, тогда скажу, что только завели.
Учительница зашла в класс, и меня окатило волной страха. Встал вместе с остальными. Когда она разрешила сесть, плюхнулся на своё место и тут же прижал голову, чтобы меня не было видно из-за спины Женьки. И почему он такой мелкий? Не спрячешься за ним толком. Вот если б был, как Серёжка, – тот вон как за лето вымахал, на старшеклассника стал почти похож. Или отрастил бы шевелюру: я видел из соседнего класса одного, так у него не голова, а одуванчик какой-то – волосы во все стороны торчат. За таким точно училка не заметит. А Женька, как специально, стрижётся коротко. Запретить бы короткие стрижки, тогда и двоек было бы меньше.
Притихли все. Смотрю по сторонам: уткнули носы в учебники или тетрадки листают – только делают вид, что повторяют. Я и сам потянулся за книгой и отчаянно нырнул в неё. Украдкой бросил взгляд в тетрадь соседки. Маринка эта хитрющая локтями всё закрыла. А я думал, спишу у неё или подгляжу хотя бы самое начало. Попросишь ведь – откажет, да ещё самодовольно так, как будто одолжение у неё просишь. Нет, уж лучше двойку получить, чем унижаться.
В классе тишина, даже муху слышно. Марь Витальевна поправляет очки, спрашивает, кто готов домашнюю работу отвечать. Молчим. Даже отличницы молчат, проклятущие. Вызывают Степанова, и все вздыхают с облегчением. Да, ему же исправляться нужно, он на прошлой неделе контрольную завалил. Чего это я волновался так? Даже глупо как-то.
Мнётся Степанов. Понимаю, что и он не сделал домашку. А я ещё посмел на него надеяться! Не признаётся – а вот это по-нашему! Пусть время потянет, товарищей выручит. Ему пары не избежать уже, а нам всяко меньше достанется, если он подольше выкручиваться будет.
Не выйдет актёра из Степанова. Сдался почти сразу, посыпался. И пяти минут у доски не простоял. Я думал, хоть училка нотации начнёт ему читать, а там и пол урока уже пройдёт. Но она быстро управилась, всего лишь назвала Степанова безответственным и влепила двойку. Он, понурый, вернулся на место, а мы снова отгородились от учительского стола книгами и тетрадками.
Вновь страх окутал меня с ног до головы, и теперь я был уверен, что следующий черёд уж точно мой. Приковал взгляд к Марь Витальевне, готовой вот-вот стать моим палачом. Вот она склоняет лицо над журналом, и очки чуть спадают с носа. Вот проводит худощавым пальцем по странице, то останавливаясь на какой-нибудь строчке, то продолжая скользить вниз. Те, чьи фамилии в начале списка, вздохнули с облегчением. Везунчики. А моя вот ближе к концу, так что напрягаюсь всё сильнее с каждой секундой.
Её палец остановился. Возможно на моей фамилии. Открывает рот. Сейчас произнесёт. Как же я хочу исчезнуть!
В дверь постучали, и, не дождавшись разрешения, в класс вошла моя мама. Все оцепенели от неожиданности, наверное, училка тоже. Она поднялась в растерянности, так и оставив палец на строчке в журнале. Мама нашла взглядом меня, прошагала к учительскому столу и что-то зашептала Марь Витальевне. Та изменилась в лице, как будто испугалась. Обе посмотрели на меня с жалостью, и я почувствовал, как горят уши.
В голове опустело. Как и остальные в классе, я тупо наблюдал за происходящим с раскрытым учебником в руках. В мозгу вяло пронеслась мысль: «Что здесь делает моя мама? В это время она должна быть на работе», ‒ но она не успела развиться.
– Миша, пойдём, – сказала мама как-то хрипло, – на сегодня я тебя забираю.
Не сразу сообразил, что от меня хотят. Машинально встал, когда мама протянула мне бледную руку. Сгрёб тетрадь и учебник в рюкзак – ручку я, кажется, тогда уронил и потом так и не нашёл – и последовал за мамой прочь из кабинета. Знал, что все в классе пялились на меня, но сам понимал не меньше, чем они: просто шёл, куда меня вели.
Я прикрыл за собой дверь, и мама повела меня по коридору. Из кабинетов были слышны голоса – урок в самом разгаре, а мы проходим мимо, как будто имеем право вот так просто разгуливать. Я даже представил, что мы с мамой стали невидимыми или находимся в параллельном мире: все страдают, учатся, а мы вот так просто идём, никем не замеченные. И нас не касаются никакие расписания, обязанности, правила, которым подчиняются все остальные. Мы – это просто мы, идущие куда-то, возможно, без цели, но такие свободные. Почему-то я обрадовался. Даже как-то было всё равно, по какой причине мама вот так заявилась в школу посреди дня. Пока мы спускались по узкой пыльной лестнице, я едва чувствовал ступени, казалось, парю – так мне было радостно. Вероятно, я улыбался, но мама шла впереди и не заметила моей радости.