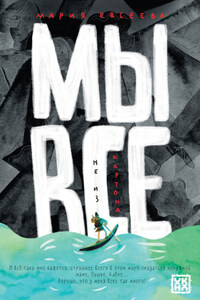Когда я думаю об отце, я вспоминаю, что он всегда забывал чашку на столе. Не допивал чай. Уносился куда-то к новым записям, заметкам, книгам – он вечно громоздил одну на другую, пока они все с грохотом не падали, – к расчётам, профилям на полях, метелям, вихрям. Он сам был как вихрь. Иногда чай так и стоял нетронутый. В любом случае отмывал его чашки всегда я – тихонько, медленно, солью и специальной тряпочкой, пока разводы не исчезали. Чашки были: чёрная, красная и салатовая – моя любимая.
– Руки испортишь, – говорил отец, когда его вихрь ненадолго замедлялся и он успевал разглядеть меня. – Нашёл сокровища! Я новые принесу.
Я не хотел новые. Каждый раз, когда чашка проступала из-под налёта, подставляла салатовое брюшко, – каждый раз мне казалось, что я обнуляю время. Чашка чиста, и, значит, дни начнутся заново. И не настанет тот, в котором мне придётся расстаться с отцом.
О том, что мне придётся с ним расстаться, я, кажется, знал вообще всегда. Не могу сказать «сколько себя помню» – я очень мало себя помнил в те дни; вообще считал, что помнить прошлое людям не положено. Мы всегда жили с отцом в домике в лесу, и рано или поздно мне надлежало этот домик покинуть навсегда – вот и всё, что я знал, но мне хватало. Оставить полосатый коврик в спальне и ещё один, с узкими полосками – в гостиной. Оставить вазу, в которой по особому расписанию менялись листья – дубовые, кленовые, берёзовые. Бордовые, иссохшие. Отец всё норовил сбить очерёдность, но я не давал, и так пока он не сказал, что я его пугаю. Тогда я стал нарочно путаться, но редко – у меня было собственное, тайное расписание в расписании, в которое отец так и не вник.
Отдельно я заранее горевал по солонкам – их было две. Весенняя – в виде белой птички и зимняя – из хрусталя и серебра. Иногда отец доставал зимнюю и летом тоже, унизывал пальцы кольцами, и губы у него в такие дни казались ещё тоньше обычного. Я ни о чём не спрашивал. Про птичку отец всегда говорил, что отпустит её в тот день, когда я уйду.
– То есть это застывшая живая птица?
– Да, тебе на счастье.
Мне казалось, что горе моё, когда я уйду, будет слишком огромным, невозможным за один раз, и поэтому каждый день как бы немного прощался – с умывальником, у которого носик был свёрнут чуть набок; с чашками; с круглым нашим столом – у него ножка внизу ветвилась на три когтистые лапы; с кроватью на втором этаже; с сушёной мятой на карнизах; с чернильными ручками отца – он их везде разбрасывал – и с чернильными пятнами на его пальцах; с его манерой разговаривать с ростками. Весной у нас весь дом напоминал оранжерею – так много везде стояло рассады.
Я прощался с рассветами, которые лучше всего виделись из моего окна – мне кажется, несколько раз отец даже устраивал парочку лишних, чтобы я посмотрел, – со скрипом снега на крыльце зимой и с белками, которые садились на руку. С тем, как отец говорил им:
– Вы отвратительные грязные животные. Нет, я не дам вам больше семечек, вы их попрячете и забудете. Нет, приходите завтра.
Поэтому, когда теперь мне вновь и вновь напоминают, кто мой отец на самом деле – кем он был на самом деле, – я надеюсь, что кто-то сейчас моет его чашки. Мне говорят, что я в таких беседах будто задёргиваю шторы изнутри, но это не так. Я заколачиваю ставни.