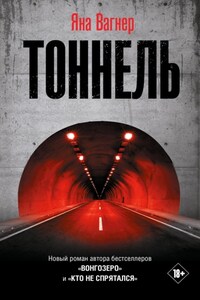У нее были славные круглые грудки, совсем коричневые от загара, тонкие голенастые ноги, острые коленки, маленькие пальцы, растопыренные по изнанке кожаных сандалий, и выпуклый детский живот, как у пластмассовой куклы. Она сняла с себя майку сразу, как только вылезла из машины: стянула ее через голову и не глядя бросила назад, на сиденье, и тут же застыла, подставив солнцу пустые ладони и запрокинутое лицо. Остальные еще деловито хлопали дверцами, перекрикивались, тащили из багажника тяжело звякающие пакеты и сумки; полуторачасовая дорога из душного города еще продолжалась для всех, кроме нее, потому что дорога не заканчивается до тех пор, пока бутылки не перекочуют в морозильник, мясо не скуксится под наспех устроенным маринадом и сумка с вещами, пусть даже неразобранная, не будет брошена поверх чужой кровати. Мир устроен так, что даже двухдневную вылазку за город облагает обязательным налогом, паузой, необходимой для перезагрузки: прежде чем перейти к отдыху, нужно выкурить первую сигарету, оглядеться, выдохнуть, сказать хозяевам какую-нибудь вежливую ерунду. А для девочки – через покрытое утренней испариной оконное стекло Рогову показалось, что лет ей вряд ли больше двадцати, – этих условностей словно и не существовало. Ей было очевидно плевать на сумки, бутылки и неизбежную процедуру знакомства. Она выбралась из автомобиля и в ту же секунду оставила позади дачные пробки и вялую дорожную скуку, отделилась, оторвалась и перепрыгнула через глупые тормозящие ритуалы. Он и заметил-то ее не из-за снятой майки, под которой к тому же обнаружился скучный верх спортивного купальника, словно и в этом вопросе она не готова была допустить никаких проволочек, а именно благодаря ее явному нежеланию терять время. С недавних пор в роговской системе приоритетов у времени конкурентов не осталось. Девочка была молодец.
Выходить из дома и встречать приехавших показалось ему лишним; отчасти – из-за примера незнакомой девочки в кожаных сандалиях, отчасти – из упрямого протеста против их вторжения. Не надо было их пускать, подумал он со слабым раздражением, наблюдая через кухонное окно, как они дурашливо прыгают по двору, закрывают ворота и тормошат свою застывшую спутницу; или, по крайней мере, нужно было сказать ему, чтобы приехал один, кому нужен этот детский сад на выезде?
Мальчик позвонил вчера в неудачный момент. Рогов старался, чтобы моментов этих было как можно меньше, и, как ему казалось, уже достиг в этом определенных успехов, но в любой стратегии рано или поздно находились слабые места. Вчерашний план действий дал сбой, и когда расчирикался телефон, он нарушил правило и снял трубку, а сделав это, выяснил, что в самом деле рад услышать человеческий голос. Пап, сказал мальчик, ну ты как там? Слушай, пап, сказал он потом, не дождавшись ответа, а ничего, если мы с ребятами заедем на выходные? Давай, Ванька, ответил Рогов сразу же, хрипло и с благодарностью, и пожалел о сказанном почти в ту же секунду, и продолжал жалеть до сих пор. Чтобы как-то уравновесить напрасную свою вчерашнюю уступку, он мстительно рассмотрел в утреннем зеркале свое заросшее седоватой щетиной лицо и бриться не стал, как не стал и вытряхивать пепельницы или мыть скопившуюся за пару дней посуду. Когда лязгнула тяжелая входная дверь, а в прихожей послышались голоса, Бобкин радостный визг и цокот когтей, Рогов вспомнил, что вчера глупый пес опять нажрался травы и оставил на коричневой плитке белесую лужицу со смятыми изжеванными стебельками, и почувствовал все-таки что-то похожее на раскаяние. Уж собачью блевотину точно можно было убрать.
Как всегда, Боб принял на себя неловкость первых минут, когда незнакомые люди появляются на пороге. Выглянув в коридор, Рогов уперся взглядом в две пары аккуратных девчачьих ягодиц и поверх умильного писка и восторженных Бобкиных прыжков кивнул сыну с безопасного расстояния, поздоровался, не приближаясь. И Ванька, нагруженный сумками, послал ему с порога обычную свою осторожную улыбку, а за спиной у него – и за эту непреодолимую сейчас дистанцию Рогов тоже был благодарен двум присевшим на корточки девочкам и скачущему сеттеру – топорщился ненавистный и вечный Ванькин друг, щекастый Дима Гордеев, вскинувший руку в нелепом римском приветствии. Рогов досадливо повернулся и шагнул назад, в гостиную, хлопая себя по карманам, пытаясь нашарить сигареты. Не надо было, черт, не надо было их приглашать.
Четыре с лишним недели он провел один на один с дружелюбным бестолковым псом, звенящей летней подмосковной тишиной, наполненной сверчковым стрёкотом и ночным жабьим треском. При всем желании он не мог бы признать эти жаркие недели прожитыми зря, потому что неожиданно обнаружил, что наедине с самим собой и глупой собакой почти не чувствует паники, какую непременно нагнали бы на него люди, которых он двадцать лет звал своими друзьями. Панику впускать было нельзя. Паника всё бы испортила.