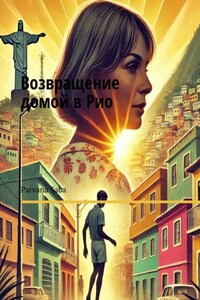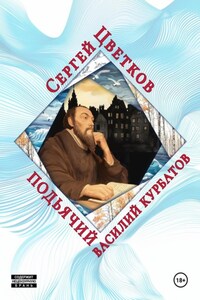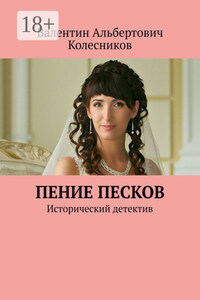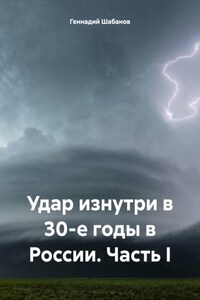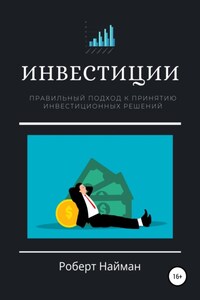Отцу моему, Петру Тимофеевичу Пискунову, было 70, когда он умер. Случилось это в 1993 году. Минуло три с лишним десятилетия, но кажется, прошла вечность.
Я прожил уже значительно дольше, чем он. Скоро не станет и меня, и тогда может бесследно стереться память о нём, ветеране Великой Отечественной, участнике Сталинградской битвы. Затянулись же землёй окопы и воронки, быльём поросли места, где гремели сражения.
Вспоминать о войне отец не любил и только раз в году – 9 мая – надевал пиджак с наградами. Его рассказы о боях были немногословны, как у большинства тех, кто испытал фронтовые мытарства. У меня же вечно не хватало времени расспросить, где и как воевал. Да и слушалось по молодости краем уха. Теперь об этом остаётся лишь сожалеть.
Внешне отец выглядел здоровяком, однако физических нагрузок не выдерживал. Это становилось особенно заметно, когда мы пилили дрова или копали огород. А стоило ему полежать под легковушкой, подтягивая гайки, как тут же подстуживал едва защищённое лёгкое. Между тем инвалидность по ранению оформил, только достигнув пенсионного возраста.
Память сохранила эпизод из раннего детства.
Спозаранку мама хлопочет на кухне. Я, совсем ещё кроха, крадусь туда, где отец; он или дремлет, или делает вид, что спит, лёжа на животе, лицом к стене. Лечу что есть духу, взмываю над обнажённой широкой спиной и падаю, распластываюсь, целиком умещаюсь на левой её стороне.
Рядом, на месте правой лопатки, – пугающе огромный кирпично-красный рубец. Опасливо провожу пальчиком по шершавой неровности. Плечи отца вздрагивают от беззвучного смеха…
Помнится, незадолго до смерти он, едва скрывая гордость, протянул мне пухлую книжку, открытую на странице, где описывался бой с его участием.
Около 20 танков со свастикой прорвали оборону. Часть батальона, покинув окопы, кинулась искать спасения в тылу. Однако рота миномётов, которой командовал старший лейтенант Пискунов, продолжала вести огонь, отсекая наступавших немецких автоматчиков от бронированных машин. Немало наших бойцов полегло, а тяжелораненого командира с поля боя вынес ординарец…
В детстве я слышал эту историю от отца.
Не заметив особой заинтересованности, он отобрал книжку.
Меня и в самом деле занимало иное. Мама тяжело болела, я привёз лекарство, купленное друзьями за рубежом, и волновался, поможет ли. А жили мы порознь: я в Москве, родители в Крыму – родине моей, с 1991-го в одночасье ставшей зарубежьем. Навещать их стало непросто, заграница – не наездишься!..
Вскоре оба они умерли. В пучину 1990-х канули отцовские награды, куда-то запропастилась его библиотечка.
Ту книгу, где отцу посвятили абзац, я пытался найти на полках магазинов и книжных развалах, сайте «Военная литература». Увы, попробуй отыскать её, не запомнив ни названия, ни фамилии автора.
Историк Елена Сенявская как-то писала, что «ветераны Великой Отечественной не заслужили того, как с ними обошлось общество… Мы все в долгу перед этим поколением, которое, увы, имеет серьёзные основания считать, что его предали собственные дети и внуки. Но и дети, и внуки должны отдавать себе отчёт в том, что без этого фронтового прошлого у России нет будущего»1.
Далеко не сразу я стал понимать, что слова эти адресованы и мне. Когда страна отмечала 70-летие Победы, у моих тогда ещё несовершеннолетних внуков пробудился интерес к судьбе прадеда. Увы, оказалось, об отцовской военной службе мне почти нечего сказать. И я взялся за работу.
Чем располагал в самом начале? Свидетельством о рождении. Военным билетом, где указаны этапы прохождения службы, участие в боевых действиях. Орденской книжкой. Учётной карточкой члена КПСС.
Этого хватило, чтобы наметить карту поиска. Вот её контуры: 2-е Орджоникидзевское военное пехотное училище; 191-я танковая бригада; 905‑й стрелковый полк; эвакогоспиталь № 4938; 555-й стрелковый полк; эвакогоспиталь № 1706.
Стал перелопачивать залежи интернета: вдруг да сверкнут, как песчинки на дне лотка золотоискателя, крупицы нужных сведений.
Отыскался короткий, но ёмкий очерк о курсантах 2-го Орджоникидзевского военного училища. Николай Фадеев и его друзья поступили туда, когда отец уже заканчивал учёбу. Их воспоминания проясняют, кто помог ему стать настоящим командиром2.
Сведений о 29-м запасном стрелковом полку и 191-й танковой бригаде в Сети ничтожно мало. Зато повезло насчёт 248-й стрелковой дивизии. Проливают свет на её историю труды У. Б. Очирова и О. В. Шеина. А вскоре удалось раздобыть книги Героя Советского Союза Г. М. Ленёва и В. П. Скоробогатова – ветеранов дивизии и 28-й армии, в которой она родилась.
Подобных публикаций о 127-й стрелковой дивизии не попадалось. Пришлось полтора месяца поработать в Подольске, Центральном архиве Министерства обороны.
В итоге отцовская военная биография выглядела так:
– сентябрь 1941-го – апрель 1942‑го – курсант 2-го Орджоникидзевского военного пехотного училища;
– апрель – май 1942-го – командир миномётного взвода 29-го запасного стрелкового полка;
– 20 мая – октябрь 1942-го – командир миномётного взвода 191-й танковой бригады;
– 13 октября 1942-го – 12 января 1943-го – командир миномётного взвода, миномётной роты 3-го батальона 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии;