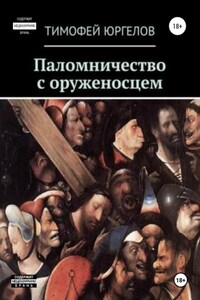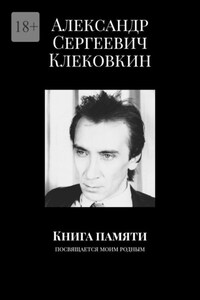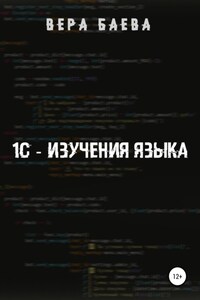Пάροικος έν τ̂η γ̂η καί παρεπίδημος έγώ ε΄ιμι μεθ΄ ύμω̂ν.
Βασιλείδης
(Странник я на этой земле и чужак среди вас.
Василид).
Часть первая
Глава первая
Все началось с возвращения в свою квартиру странного жильца.
Хотя сразу, конечно, никто ничего не заметил: ну что могло быть необычного в Андрее Зубове, которого все знали с детства? Потом он, правда, надолго пропал: поступил в военное училище, затем где-то служил, воевал, сидел, говорят, в тюрьме – и вот вернулся домой, сорокапятилетним и поседевшим. Вернулся он один, без семьи. В каком-то покоробленном пиджаке, с вытертой сумкой через плечо. Его тут же узнали по вьющемуся чубу, по усам, по раздвоенному утолщению на кончике носа, по черным наивным глазам, однако поздороваться из-за обычного замешательства никто не решился. И пока в сидевших за доминошным столом металась неуверенность: точно он?.. конечно, он… или не он?.. – Андрей молча прошел мимо, задержался еще перед входом в подъезд, отыскивая что-то в сумке, поднялся на второй этаж и заперся у себя в двух комнатах, доставшихся ему в наследство от бабки с дедом.
Дом наш и двор ничем особенным никогда не выделялись: такое же обывательское болото, как большинство дворов и домов на свете. Вся тихая улица застроена ветхими, похожими друг на друга, окрашенными охрой двухэтажками, с окнами-фонарями, с белеными проемами и сухариком под карнизом, с нелепыми завитушками пузатых балконов. Тому, кто попал сюда с шумного проспекта, на задворках которого мы живем, она покажется, скорее, чистой, чем грязной; уютной, чем унылой. Приятно пройтись по тротуару с побеленными бордюрами и кленами, услышать чью-то игру на баяне, позвякивание посуды – особенно тихим вечером, когда за тюлем и штофом зажигаются люстры и телевизоры.
Сначала все решили: ну вот, еще одного жизнь угомонила, привела в родную гавань. Наверно, Андрей и сам так думал, потому что сразу занялся тем, чем и должен был заняться: стал наводить порядок в квартире. Из его окон доносился стук молотка и другие звуки, подтверждавшие, что там идет ремонт. Бабки сдержанно ворчали: вот, мол, еще один «стукатун» завелся. Во двор он выходил только для того, чтобы вынести на помойку тряпье и рухлядь, оставшуюся после стариков. Иногда останавливался покурить с друзьями детства, но был немногословен: больше слушал, чем говорил. О себе ничего не рассказывал, на все расспросы отшучивался или пропускал их мимо ушей. И вообще уносился куда-то мыслями: засмеется вместе со всеми, а потом спросит, о чем речь. Или прямо посреди разговора повернется и уходит, ускоряя шаг. Видно, здорово его жизнь шандарахнула, думали друзья детства, выпуская ему в след струйки дыма.
Вскоре он совсем исчез, и стук прекратился. Заходивший к нему по-соседски Сява рассказывал, что он лежит на диване и читает "старинные книги" – целая груда их навалена у него посреди комнаты. Видимо, начал разгребать стариковские залежи (кто-то вспомнил, что он интересовался: принимают сейчас книги в буке или нет) – и зачитался. Зарос щетиной, на столе в кухне грязная посуда, засохшие лужицы чифира, горки пересушенной заварки, мирно пасущиеся тараканы. "У самого глаза, как у бешеного таракана, и усы торчком", – рассказывал Сява. "А что за книжки он читает?" – спрашивали у него. "А я х… его знает! – мура какая-то, и написано по-старинному". – "Божественные?" – "Да нет вроде – хрен поймешь! По ходу, у него того… – И Сява стучал себя по темечку, раскрыв рот, чтобы получился «пустой» звук: – Хи-хи, га-га – гуси летят"… – "Может, его на войне контузило?" – предположил кто-то. – "Нет, в зоне дубинка по чану прилетела. Видали шрам на лбу? Спрашиваю: откуда? Да в зоне, говорит, дубинкой от контролера прилетело". – "А за что сидел, не рассказывает?" – "Не-а. Что-то у него с женой вышло. Крутит-вертит: "за черепки", говорит, посадили". – "За "черепки" столько не дают". Словом, все еще больше запуталось.
Андрей уже успел привыкнуть к родной квартире после первого, похожего на шок, впечатления, когда все показалось микроскопическим и убогим. Дома у Андрея в далеком детстве перебывал почти весь двор, и с тех пор тут мало что изменилось. Темная прихожая с вешалкой из рогов вела в комнату, центр которой занимал круглый стол под абажуром. Облезлое трюмо в простенке, будто затянутое изморозью, отражало обстановку парящей над полом, в более светлых тонах, чем в действительности, ─ таков был оптический эффект. Бабушка говорила, что это – "венецианское стекло, дорогая вещь", даже сейчас Андрей, глядя в него, чувствовал смутное благоговение. Здесь же находился комод с висячими ручками, которые когда-то притягивали, как магнитом. Собственно, притягивали не они, а то, что хранилось в запертых от него ящиках, ручки же словно вобрали в себя отсвет загадочного содержимого и хотя бы отчасти заменяли обладание им. Их бряцание действовало дедушке на нервы, и это, возможно, была еще одна, тайная, цель его упорства. "Ну что, нашла коса на камень?" – смеялась бабушка, глядя, как возвращается зареванный внук к комоду, там затихает и, посмотрев испытующе на деда, начинает поднимать и отпускать литые, узорчатые подковки. Теперь на комоде пылились шкатулки, пудреницы, коробки из-под конфет, склеенная фарфоровая балерина, пожелтевшая вышивка (то, что казалось когда-то таким заманчивым и значительным) – все очень ветхое и мизерное – уже ничье. (Всякий раз при взгляде на эти осколки чьих-то смешных привязанностей у Андрея начинало тупо, словно от удушья, ныть сердце.) Здесь были так же фотографии погибших родителей; дед в буденовке и шинели до пят, с деревянной кобурой на боку; он же с бабушкой, молодые и старые; снимки Андрея, детские и в курсантской форме. Эти, в рамках, стояли там всегда, но появились и новые. Очевидно, Андрей нашел их в альбоме, когда разбирал книжный шкаф. С твердых карточек смотрели военные, в эполетах, с закрученными кверху усами: дамы в шляпках и кружевах – они были без рамок.