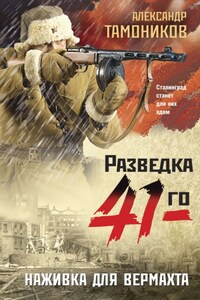Ранение было пустяковым. Пуля прошла навылет через мышцу левого плеча, не задев кость. Досадно, войне конец, а ты тут лежи, копти небо. На календаре 18 мая 45-го года, десятый день мирной жизни. Военно-полевой госпиталь располагался за северными предместьями Праги, вблизи опрятной деревушки с ласковым названием Неженка. Сюда свозили всех подряд – гражданских, офицеров, рядовой состав. Это было одноэтажное здание барачного типа с подсобными постройками. Вокруг росли липы, декоративная калина. За окном палаты – зевающие красноармейцы гвардейского корпуса, несущие службу по охране госпиталя, полуторка с красным крестом, пятнистый «ГАЗ-М1» главврача Тетерина. Пустая беседка, из которой медсестры и санитарки гоняют курильщиков. Павел третий день изнемогал от безделья, украдкой курил в открытое окно, прислушивался к разговорам товарищей по несчастью. Рука работала, пусть с болью, со слезами, но работала. Опасности ранение не представляло, операция – не бей лежачего, но пуля оказалась какой-то зловредной – порвала ткани, и первые два дня он не мог найти себе места. Анальгетики лишь временно снимали мучения. А потом вдруг полегчало, болезненные ощущения притупились. Возникла мысль: что он тут делает? К товарищам, в группу! Эти неумехи дров же наломают без него! Три дня назад он выловил в больничном переходе измотанного главврача Тетерина – подслеповатого худощавого майора с моргающими глазами – и потребовал немедленной выписки.
– Товарищ больной, вы соображаете, что говорите? – воскликнул Тетерин. – Какая выписка?! Как минимум неделю на нашей койке, ничем другим порадовать не могу. Рана должна зажить. Мы не имеем права выписывать людей до полного излечения.
– Поймите, доктор, – упорствовал Павел, – мне надо в часть, меня там ждут, я не могу без дела отлеживаться в вашем «санатории»!
– Неужели, больной? – язвительно оскалился главврач. – Вы не в курсе, что война уже закончилась? Я не имею права вас выписывать, если вы снова собираетесь в строй! Вот если на «гражданку» – тогда другое дело. И вообще, хватит митинговать! – отрезал доктор. – Идите на место, скоро придет медсестра Ларочка и сделает вам укол.
Не хотел он медсестру Ларочку. Она была нескладной, некрасивой и обладала нулевым обаянием. Другое дело, медсестра Танечка – большеглазая, миловидная, с длинными волнистыми волосами. Но последняя редко заходила в палату к пациентам «средней тяжести», работала с «тяжелыми» и на подтянутого капитана даже не смотрела. Он продолжал возмущаться, распаляясь все больше:
– Да вы знаете, кто я такой? Капитан Верест Павел Сергеевич, сотрудник Главного Управления контрразведки Наркомата обороны, руководитель специальной группы отдела Смерш Ударной армии! Я требую немедленной выписки, иначе покину это заведение самовольно!
Доктор немного побледнел, но позиции не сдавал.
– Знаете, милейший, – устало вздохнул он, – мне глубоко безразлично, кто вы такой – Смерш, НКГБ, генерал армии, хоть генералиссимус Суворов. Пока вы находитесь на лечении, вы – никто, зарубите на носу. Здесь я командую. А вы извольте подчиняться. Всего хорошего, больной!
Павел продолжал ворчать под нос, возвращаясь в койку. Совсем страх потеряли – в грош не ставят контрразведку. Как назло, разболелась рука. Он лежал, свернувшись под одеялом, пыхтел от злости, как паровоз на холостом ходу. Нескладная медсестра гремела инструментом, делала кому-то перевязку. Ее постное личико только раздражало. С улицы неслись гневные выкрики Вероники Аскольдовны – капитана медицинской службы, обладающей несносным характером:
– Когда же это кончится, граждане больные? Снова в беседке накурено и матом наругано! Вам невдомек, что курение убивает – пусть медленно, но неотвратимо? Не приходит в голову, что среди больных есть некурящие и им не очень нравится дышать вашими выделениями?!
Павел усмехался под одеялом. Некурящих в победоносной Красной армии практически не осталось. Курили самосад, махорку, редкие отечественные папиросы, вонючий немецкий табак с переизбытком отравляющих смол – гарантированное средство от старости. Курила сама Вероника Аскольдовна, фамилии которой никто не знал. Всякий раз, ампутировав кому-то руку или ногу, она сидела в своей каморке, кашляла в зловонном дыму и прикладывалась к флакону с медицинским спиртом.
Рука ныла, как последняя сволочь. Боль вытягивала душу. Иногда она отступала, давала передышку, потом опять переходила в наступление. Вдобавок рука на перевязи не держалась – постоянно выпутывалась.
В госпитале гвардейского корпуса, дислоцированного к северу от Праги, было сравнительно тихо. Пациенты не отличались буйным нравом. На другом конце барака кто-то стонал, просил пить. Там сновали люди в белом (отнюдь не ангелы), кого-то вытаскивали на носилках. Соседи, ефрейтор Бульба и рядовой Кондратьев, украдкой резались в карты. Оба поступили неделю назад с осколочными ранениями мягких тканей. Пострадали от одной гранаты – зачищали в составе роты поселок на краю Праги, какой-то «непримиримый» юнец и бросил со второго этажа смертоносный сюрприз. Вместо того чтобы упасть, оба рванули, как ошпаренные. А потом «добрые доктора», украдкой посмеиваясь, извлекали из задних мест небольшие, но острые осколки. Они постоянно ругались, очевидно, водили доброе знакомство еще до госпиталя. «Какого черта ты рванул от этой гранаты? – шипел Кондратьев на Бульбу. – Тьма ты необученная, падать надо было, осколки бы поверху и разлетелись». – «А що ж ти не падав, раз такий розумний? – отбивался от товарища Бульба. – Міг би не бігти за мною». – «Так ты меня с толку сбил, – объяснял Кондратьев. – Ты побежал – и я побежал. А теперь стыдоба будет перед парнями, когда в роту вернемся. Хоть не приходи – опарафинят по полной программе!»