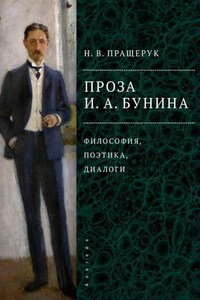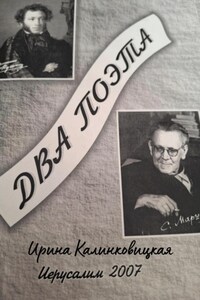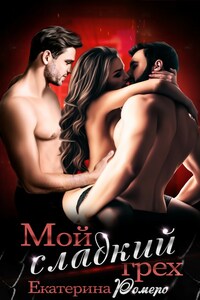Ранее, анализируя вершинные прозаические произведения И. А. Бунина, мы определяли тип его художественного сознания как феноменологический, содержательно обосновывая это понятие целой системой аргументов[1]. Нельзя сказать, что сейчас – при современном состоянии буниноведения – термин утратил свою актуальность, однако очевидно, что он нуждается в уточнении и дополнении. Это связано с необходимостью скорректировать, углубить наше понимание того, каким является бунинский тип художественного сознания, взятый системно и в функциональном аспекте, определяющий законы выстраивания произведений писателя, практику его письма.
Бунин – художник и человек – по его собственному лирическому признанию, был «обречен познать тоску всех стран и всех времен», и это его редкое качество всеотзывчивости прямо связано с тем, что по охвату изображенного, по спектру освоения культурных, литературных и религиозно-философских традиций он представляет тип художественного сознания универсалистский, способный синтезировать в своем творчестве различные ценностные и эстетические смыслы. Пытаясь постичь сущность бунинской метафизики, ученые исследовали в его мире буддистскую и шире – восточную религиозно-философскую составляющую, которая в ряде случаев трактовалась в качестве определяющего мировоззренческого вектора[2], «ветхозаветное ядро»[3], романтические и шеллингианские аллюзии, связи с европейской и русской философией ХХ века, более органичную для русского художника христианскую/православную духовную традицию[4], мифопоэтику, базирующуюся на общекультурном символизме, и др. В такой разноголосице подходов определяющим становился тот, который напрямую обусловлен субъективным мировоззренческим выбором исследователя, если только изначально не учитывалась специфика художественного сознания Бунина именно по широте/спектру освоения им опыта самых разных его предшественников.
Насколько чуток Бунин был к «чужим» открытиям в понимании мира и человека, можно судить по многим и многим его произведениям. В «Тени птицы», например, он осваивает многоликий и многовекторный Восток – языческий, исламский, библейский – ветхозаветный и новозаветный: повествователь – alter ego автора – помнит «отблеск закатившегося Солнца Греции», думает «словами Корана», слышит «ветхозаветный скрип» колес, ощущает живое присутствие Христа в местах, отмеченных его земным пребыванием, сквозной «солнечный сюжет» книги выстраивает, опираясь на общекультурную символику: солнце – символ жизни и духовной активности, знак света истины; Христос как истинное Солнце; искажающий истину свет луны и др. В «Братьях» и «Снах Чанга» нам явлен буддистский Восток, а в «Жизни Арсеньева» – в постижении тайны жизни главным героем и его «вхождениях» в эту тайну – зримо и незримо присутствует русская и европейская философская традиция ХХ века. Особенно дорогие, запомнившиеся моменты таких «вхождений» специально обозначены, выделены в тексте. Вот лишь немногие из них: «Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало?»[5]; «…и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, <…> но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата» (6, 91–92); «Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы. <…> И во всем была смерть, смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!» (6, 105); «…все-таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей <…> есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, <…> есть непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течения несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем, а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, не-кий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить “…Вы, как говорится в оракулах, слишком вдаль простираетесь” И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?» (6, 152–153); «Ужасна жизнь! Но точно ли “ужасна”? Может, она что-то совершенно другое, чем “ужас”?» (6, 233); «Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности пронзительной сложностью» (6, 238); «Жизнь и должна быть восхищением» (6, 261). Авторская интенция, как бы «схваченная» этими отдельными высказываниями-воплощениями, напитана во многом идеями философии жизни. Сравните, например, приведенную здесь большую цитату из бунинского текста (6, 151–152) с рассуждением А. Бергсона: «Замысел жизни, единое движение, пробегающее по линиям, связывающее их между собою и дающее им смысл, ускользает от нас»