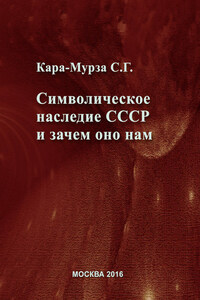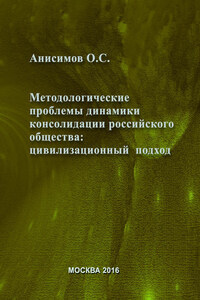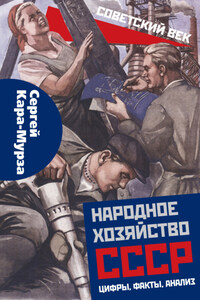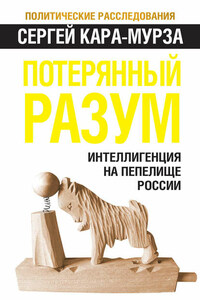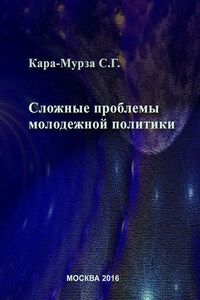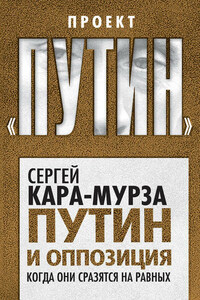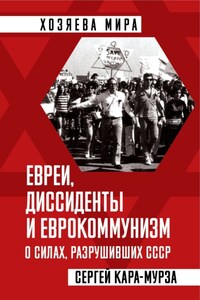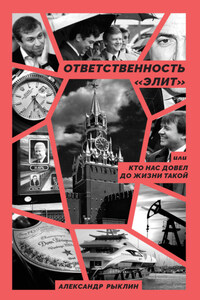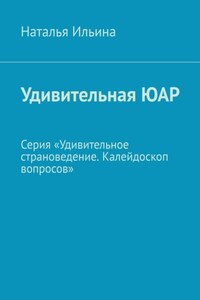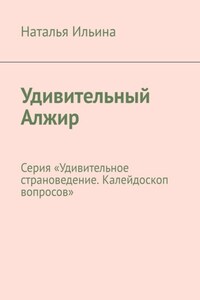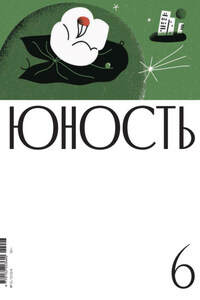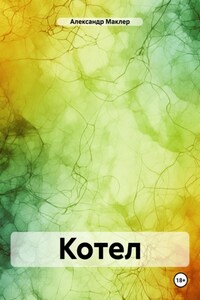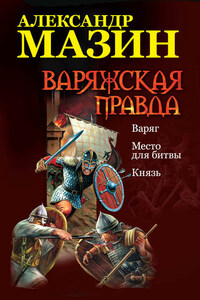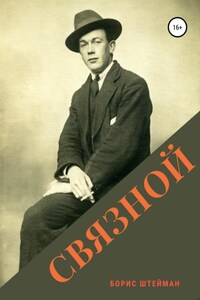Сергей Георгиевич Кара-Мурза – советский и российский учёный, по образованию химик, профессор, автор работ по истории СССР, теоретик науки, философ, политолог и публицист, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН.
Состояние России требует срочно разгрести хаос мифов и фантастических идеологем, нагроможденных длительным системным кризисом. Без того, чтобы хоть немного упорядочить представления о реальности и ее предыстории, невозможно никуда двинуться. Нужны пусть грубые, но связные объяснительные модели нашего положения. Их появление потянет за собой очередную попытку начать диалог с общностями и с властью. А дальше – шанс на появление оппозиции, без которой в нашем состоянии будем продолжать топтаться. Группа из «бригады Ельцина» и ее интеллектуальные сподвижники, недовольные нынешней властью, не является оппозицией, не стоит об этом говорить.
В этом очерке мы говорим об оппозиции в состоянии ее зарождения – не о той, которая ходит на демонстрации, кладет цветы на могилу Сталина и обличает коррупционеров на митингах и в Госдуме. Эта деятельность нужна, она людей поддерживает. Но она не соединилась с тем, что Энгельс назвал первым типом политической борьбы – теоретическую борьбу (т. е. изучение и представление реальности, поиск альтернативных действий). Без этого не помогли бы ни забастовки, ни «булыжник оружие пролетариата». Маркс и Энгельс создали учение, которое на сто лет снабдило самосознанием буржуазное общество и превратило массу наемных рабочих в пролетариат, в «класс для себя». И этот класс в союзе с левой интеллигенцией и частью буржуазии стал политической силой, которая «сбалансировала» капитализм.
России это не подошло – в Запад к себе ее не принимал, пришлось выработать другую теорию, для крестьянских стран. Россия «обошла» капитализм и устроилась в СССР, многие другие страны шли «по касательной» на периферии капитализма. Сейчас в России нет ни СССР, нет и западного капитализма. Что за строй и куда он катится, трудно понять. Положение критическое, необходимо представление о реальности и о вариантах движения – и направления и «транспортных средств». Для этого и нужна оппозиция, способная вести теоретическую борьбу.
Многие мыслители об этом говорили. П. Бурдье так сказал: «Собственно политическое действие возможно, поскольку у агентов, включенных в социальный мир, есть знание (более или менее адекватное) об этом мире и поскольку можно воздействовать на социальный мир, воздействуя на их знание об этом мире. Это действие призвано произвести и навязать представления (ментальные, словесные, графические или театральные) о социальном мире, которые были бы способны воздействовать на этот мир, воздействуя на представление о нем у агентов».
Таким образом, политическое действие невозможно, если ему не предшествует соответствующее изменение в сознании людей – и элиты, и массы. Вся история показала, что это условие является абсолютным. Как подчеркивал П. Бурдье, «политический бунт предполагает бунт когнитивный, переворот в видении мира». Когнитивный бунт – это перестройка мышления, языка, «повестки дня» и логики объяснения социальной действительности. Само по себе недовольство этой действительностью к «политическому бунту» не ведет. Недовольство без изменения в видении мира может лишь бунт толпы, ярость которой хозяева дискурса могут направить в любые стороны.
В другом месте Бурдье уточнил: «Познание социального мира, точнее, категории, которые делают его возможным, суть главная задача политической борьбы за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира».[1]
Это как будто прямо сказано для той части нашего населения, которая в 1980-е годы стремилась «сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира». Этот социальный мир – СССР. Но чтобы вести политическую борьбы «за возможность сохранить» советский строй, надо было гораздо лучше познать наш социальный мир.
Здесь рассмотрим один из факторов, затрудняющих возникновение дееспособной оппозиции уже в нынешнем, постсоветском кризисном обществе. В данный момент, как ни покажется странным, это препятствие – выведение оснований для обращения к гражданам из успехов советского проекта.[2] Сейчас мы проходим период дезинтеграции общества и распад общей мировоззренческой матрицы, и обращаться к широкой аудитории с примерами из советской жизни, которую мы утратили, только усилит раздор.
Этот фактор кажется второстепенным, но он тесно связан со всей системой причин этого кризиса и уже очевиден.
Этот очерк посвящен узкой теме, во многом методологической. Эмпирическое представление о реальности у большинства сходно, об интерпретации и оценке этой реальности говорить не будем (мою трактовку краха СССР и его следствий см.[3]). Тем более в этом очерке нет претензий на теоретические спекуляции – в предмете, который мы обсуждаем, переплетены рациональное мышление и системы психики. А в политических процессах, которые мы хотим понять, очень часто психика политиков и массы подавляет разум.