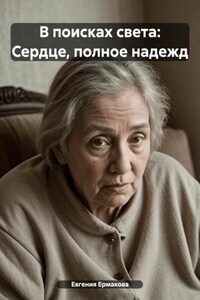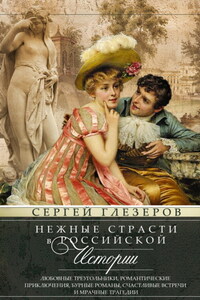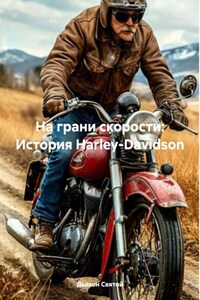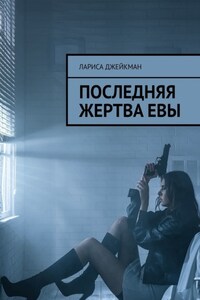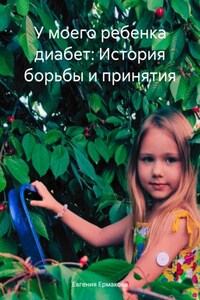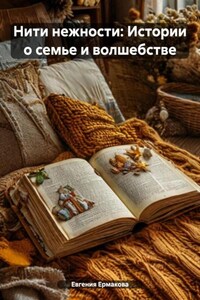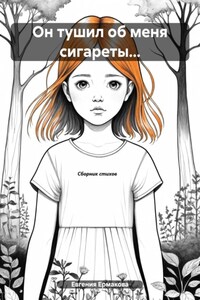Детство в преддверии войны
Я появилась на свет в конце 30-х годов, когда мир ещё жил иллюзией спокойствия, но уже накрывался тенью великого бедствия. Европа гудела от тревожных новостей: нацистская Германия готовилась к войне, аннексировала соседние территории, а Советский Союз то подписывал пакты о ненападении, то присоединял новые земли. Но в нашей деревне мало кто задумывался о большой политике. Люди жили своим трудом, сеяли хлеб, растили скот, растили детей, надеясь, что беды пройдут стороной.
Я родилась в семье крестьян, крепких духом и руками. Нас было четверо у родителей. Но к концу войны остались трое. Моя младшая сестра, Надежда, умерла, не успев узнать, что такое жизнь.
Мне было не больше пяти лет, но это воспоминание будто выжжено в памяти. Я помню, как мама сидела у её колыбели, неподвижная, словно каменная статуя. Она смотрела в одну точку, не замечая ни нас, ни темноты за окном, ни холода, пропитавшего стены дома. Никто не знал точно, отчего ушла Наденька. Может, от голода, может, от болезни. Тогда умирали часто, особенно дети.
Была война, и жизнь меркла перед лицом смерти. В городах полыхали пожары, с фронта приходили похоронки, но в нашей семье самая страшная утрата случилась тихо, без громких слов и выстрелов. Только тяжёлое молчание, прерываемое редкими вздохами матери, да тусклый свет керосиновой лампы, которая горела всю ночь.
Надежде не было и года. Она даже не успела научиться говорить, но я помню её крошечные ручки, как она тянулась к матери, как лепетала что-то невнятное. А потом вдруг перестала.
Маленькое воспоминание большого горя.
Я не успела долго быть ребёнком. В наше время детство – это период заботы, игр и беззаботности. Но тогда оно было роскошью, позволить которую себе могли немногие. Уже в пять лет я умела ухаживать за домашней живностью: знала, как кормить уток, кур, как подсыпать соломы, чтобы им было теплее зимой. Мы с сёстрами не просто помогали по дому, а работали наравне со взрослыми. Подметали двор, пололи огород, таскали вёдра с водой. Это не казалось нам чем-то исключительным – так жили все.
Но когда началась война, трудности стали не просто бытом, а борьбой за выживание. Запасы быстро истощились, животных пришлось отдать в колхоз или забить, чтобы хоть немного продлить существование семьи. Я не помню, чтобы мы когда-либо наедались досыта. Всё, что можно было съесть, шло в дело: травы, картофельные очистки, замёрзшие ягоды, сухие корки чёрного хлеба, размачиваемые в воде. Иногда удавалось достать ложку муки, развести её кипятком, и это считалось обедом.
Моя внучка, слушая мои рассказы, не могла понять, как мы выжили.
– Бабушка, а почему вы не замёрзли в землянке? Там же холодно!
Я только качала головой. Что я могла ей ответить? Разве можно объяснить, как человек цепляется за жизнь, даже когда кажется, что она уходит сквозь пальцы? Просто чудо. Чудом спаслись, чудом выкарабкались.
И это чудо сделало меня другой. Я научилась ценить каждую крошку хлеба, каждую нитку ткани, каждый кусочек мыла. Я стала экономной, бережливой, привыкла обходиться малым. Даже когда времена изменились, и можно было позволить себе больше, я по привычке во многом себе отказывала. Иногда слишком сильно.
Помню, как мы с сёстрами делили одно платье на троих. Одну пару сандалий носили до дыр, подшивали, чинили, но всё равно ходили с голыми пятками. Сейчас одежда доступна, её можно купить в любом количестве, но тогда мы завидовали тем, у кого было хотя бы два платья. Они выглядели опрятно, а мы чаще оставались дома, потому что не в чем было выйти.
Позже, когда война закончилась, жизнь постепенно налаживалась. У нас появились коровы, куры, гуси, кролики. Но это не сделало её лёгкой. Всё равно приходилось бороться за каждый кусок хлеба, за каждую копейку. Жизнь не щадила, но и мы не сдавались.
Школа, дружба и любовь к Родине
Учёба мне давалась нелегко. Я не была отличницей, не блистала знаниями, но всегда старалась. В школе не было особых привилегий, учителя относились ко всем одинаково. Мы учились в холодных классах, часто сидели в верхней одежде, потому что печки едва прогревали помещение. Краска на партах была облупленной, чернильницы врезаны в дерево, а вместо тетрадей мы иногда использовали старые газеты или писали между строк уже исписанных страниц.
Но, несмотря на это, я любила школу. Там было тепло не только от печки, но и от людей.
Мы дружили без выгоды, искренне. Никто не интересовался, сколько у кого коров в хозяйстве или есть ли у тебя новое пальто. Для нас не существовало деления на бедных и богатых, потому что богатых просто не было. Все были равны, и в этом было что-то особенное.
Каждый приносил в класс кусочек своей жизни. Кто-то рассказывал, как их отец вернулся с фронта и теперь работает кузнецом, кто-то делился тем, как их мама шьёт одежду на продажу, чтобы прокормить семью. Мы находили общие темы, читали друг другу книги вслух, обсуждали Гоголя, Лермонтова, Пушкина. Некоторые мальчишки мечтали стать лётчиками или моряками, девочки – учителями или врачами.