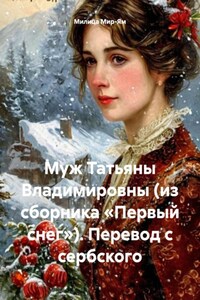Действующие персонажи:
Максим Одоевский – князь, из аристократических сословий;
Феврония Астальцева – дворовая девка, из крестьян;
Потап Григорьевич – купец первой гильдии, выслужившийся в графья;
Пантелей Степанович – заморский купец, вдовец с двумя детьми;
Мельпомена Демидова – лебедь первая Петербуржья и губерний, еврейка по отцу;
Иван Гагарин – дворянин царской гильдии, из знати и в царских кругах вращающийся;
Александра Павловна Екатериненцева – недокнягиня, и отпрыск её княжеский, сын;
Елизавета Орлова-Чесменская – княгиня, и отпрыск её княжеский, дочь;
Мария Околодонская – подружайка Февронии Астальцевой;
Герасим Фёдорович – крестьянин с идеальным крестьянским черепом;
Нино Николидзе-Сухаревская – заблудшая, гулящая овечка из дворян;
Капитолина Салтычкова – боярыня, не столбовая, но дворянка, недалёкого ума да свободного морального нрава;
Аннушка Псковская – залётная девка, из дворян;
Гела Шалва – кавказская княжна неопределенных лет отроду;
Неведомый персонаж – тайная барыня на выезде, ублажающая время от времени князя.
А также:
– мать Одоевского;
– брат Одоевского;
– сестра Одоевского;
– мать Февронии;
– отец Февронии;
– дети вдовца;
– муж Николидзе-Сухаревской;
– Ибрагим Коневой – сосед Князя
и прочие случайные персонажи, что ни день, то всплывающие по ходу повествования.
Соколица я подневольная, из девок дворовых, скорее по казачьей линии рождённая, на простой народ записанная. В партии не состоящая, исповеди посещающая, в православии замеченная.
Посчастливилось мне, бабе простой русской да полуграмотной, полюбиться князю могучему, рода знатного. Случилось это на Неделе 21-й по Пятидесятнице Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Речи сладкие лил мне князь по каналам связи проклятым, новомодным, да иностранной чумой занесённым. Уговорил он меня девку дворовую, да неразумную покинуть Матушку, подружаечку мою, что живет у Донского монастыря в келье без окон, затворницей.
Как сейчас помню ноченьку ту тёмную, четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице, вызвала я ямщика, что пригнал на конях орловских, поживших, и двинулись мы в терем князя, что недалёко от златоглавой нашей матушки, православной Московии, столицы земли Русской, митрополитно-патриархатно-перстами и куполами да маковками ознамённой.
Дорога была длинная. В былинные времена шла б я к Князю деньков 5, а то и семь, коль на пригорках бы останавливалась да ягоды-грибы собирала, но ноябрь уже дул своими снегами, метелию бил в революционные колокола так, что ягодок не видать, как ни мечтай. Осень. Поздняя, да студёная. Рысаки мчали меня в край неведомый, сердце томилось неясной истомою, билось на расстоянии Князю в унисон, не знало оно несчастное, что утонет сердечко девичье в омуте его голубых глаз.
Вот и час прошёл, будто вдали колокол на Сухаревской площади пробил, а позади "Яр" с цыганами, не в Киржач, и не в Свияжск, Дальце или Торжок вёз меня ямщик, а ближе. Куда? То тайна высокоблагородная, княжеская, за семью печатями.
А природа-то как радовалась поездке моей спонтанной. Снег сыпал белыми хлопьями, кружил танцами на чёрных кронах деревьев, отражались в луне облака угрюмые, наблюдая за грехопадением моим скорым… Знала луна и тучки грозные, князь приголубит деву юную и погубит, каки дед его губил, и отец, и прадед, что по линии Вяземских числился, да так свою ветку с отпрысками-то и оставил…
Замелькали заборы, да ворота боярские, нам люду простому неведомые. Привёз меня ямщик на погибель скорую, в терем княжеский, в хоромы старинные…
Вышел князь, дал ямщику полушку на водку да гривенник на чай без сахара да и прогнал взашей, по добру по здорову, чтоб дева юная да наивная не одумалась да и не сбежала в дом родительский…
Широк и могуч терем был князя русского. Лестница богата да узорами вита, бревно к бревну ладно справлено, идёшь и радуешься мастерству да рукастости мужика простого, крестьянина, что избу рубил, рубил, да и помер. Царствие ему небесное.
Отворив дверцу скрипучую, вошли мы с князем в сени, пахнуло бражкой, явствами и развратом. Князь был выпимши и словоохотлив дюже.
Села я на краешек лавки дубовой, да жёстко сидеть было в ночи, как за пяльцами и решила я осмелеть, поддаться на уговоры князя ночные и присесть рядом с княжеской персоной на перины диванные, чтобы дальше слушать речи дивные про путешествия заморские да приключения заокеанские. Тяжело было мне понять, девке крестьянской, что широкая мысль затаилась в голове высокоблагородной – удумал князь овладеть девкой подручной, а посему предложил лицезреть хоромы терема ибо невидаль сию не видала я…
Глаза блымдали блюдцами на белом лице, теребила косы от нервов, боялась дурь сказать и оскоромиться. Позвал молодец меня за собой, за ручки взяв белые, и по витой лестнице поднялись мы к серебряным звёздам, пошли по дому ладному да уютному. Хозяюшки-зазнобушки не хватало в том тереме, чтоб пекла расстегаи да сбитни делала, щи капустные под водочку да огурчики на стол ладила б. Понимал то и князь ибо был образования богатого, умом у умов умища набравшийся, но зазнобушку так по себе и не нашедший.
А нужна была ему баба тихая, ладная да упругая, чтоб и бояре смотрели, и дворяне, и царь засматривался, да сердце её ему б принадлежало и радовалось. Чтоб ждала она его в тереме, то рубашку вышивала, то иконку русскую, деток растила, да и сгинула, как надоест. Посему крестьянство моё князя не смутило. И решил он возлечь с девкой подневольной и указав на перины в опочивальне, приказал князь раздеться, лечь, распустить косы, да подол задрать, и любил меня долго, страстно, горячо, пока из сил не выбился.