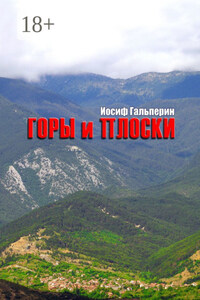© Т. И. Меттерних, 1999
© Т. Панькова, пер. с нем. яз., 1999
© А. Васильев, пер. с англ. яз., 1999
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 1999
* * *
Рождённые во времена глобальных переворотов на нашем континенте, вырвавших нашу семью из прочной основы жизни, мы остро ощутили потерю Родины, чему в не меньшей мере способствовало и то смехотворное обстоятельство, что в течение многих лет мы совершенно легально имели пять паспортов различной национальной принадлежности.
Моё детство было частью жизни наших родителей, для которых потеря Родины явилась своего рода мучительной ампутацией, не позволявшей нам сосредоточиться на себе и лишившей нас беззаботности и ничем не омраченного бытия. С тем большим нетерпением мы хотели начать собственную жизнь.
Однако не ранние, подчас столь трудные годы эмиграции, а именно Вторая мировая война оставила в наших сердцах рубцы.
Размышления о военном времени основаны на дневниках и записях 1939–1945 годов; они являются попыткой передать мои непосредственные впечатления о тогдашней обстановке и настроениях в Германии.
Людям, имеющим опыт жизни лишь в условиях демократии, почти невозможно понять жизнь людей при диктатуре; мы же за годы национал-социализма научились понимать различные способы существования при тоталитаризме. Когда были попраны основные принципы морали и права, то едва ли было возможно выбраться из этой системы бесправия, так как тогда никто не был свободен от порабощающего страха.
Пережившие Французскую революцию внушали подозрения возвратившимся эмигрантам. Когда союзники столкнулись с противоречием между концентрационными лагерями и нормальной будничной жизнью немцев, они тоже были склонны к подобной точке зрения.
В течение долгих военных лет мы познали, что невозможно долго жить с постоянным ощущением ужаса; после каждого удара судьбы будничная жизнь снова берет свое. Если человек не мог создать для себя какое-либо прибежище души – часто это была лишь своего рода внутренняя эмиграция, – то его засасывало в пучину деморализации.
Постепенно границы этого «прибежища» все более и более сужались – как у плавающей льдины – до тех пор, пока независимость многих не сужалась лишь до знака протеста или презрения.
Большую роль при этом играла личная внутренняя сила, но до тех пор, пока она не была проверена практикой, кто мог сказать, до какой степени может он положиться на себя самого.
Когда все закончилось, мы поняли, что главное в человеческом опыте составляет не опыт ужаса. Те, кто пережили это, вспоминают прежде всего о светлых мгновениях того мрачного времени: о хороших друзьях, о бескорыстных знаках любви и мужества, оставшихся единственными настоящими ценностями в том пошатнувшемся, обезумевшем мире.
Увы, после всего пережитого никто уже не мог оставаться прежним – тем, кем он был раньше, и никогда уже больше не мог вновь ощутить прежнюю полноту жизни.
Часть 1. Детство и молодость
Когда в 1963 году я впервые приехала в Ленинград, наш старый дом на Фонтанке, 7 показался мне съежившимся. В наших воспоминаниях дома часто представляются нам необыкновенно высокими, вероятно, в сравнении с тогдашним маленьким ростом. Бывшая столица была восстановлена самым великолепным образом; по-прежнему целый район города назывался Петроградским – это было так знакомо, и так далеко, как беглый взгляд в прошлую жизнь.
Мне было два года, когда мы уехали отсюда, и я помню дом лишь по внезапно вспыхивающим, несвязанным друг с другом картинам.
Я вижу себя сидящей на первых ступеньках винтовой, покрытой деревянным паркетом лестницы в ожидании своих старших – сестры Ирины и брата Александра, – которым по семь и пять лет; они спорят о том, кто поведёт меня за руку вверх по лестнице в комнату мама за углом.
Это было в мой второй день рождения – первый в России всегда пропускают. Мама лежала в постели; я уткнулась в её мягкие душистые кружева; пахло лавандой и розами, как в мешочке с носовыми платками. На стёганом одеяле лежали разложенными мои подарки: ворсистые плюшевые звери и английские книги с такими гладкими, как из шёлка, страницами. (Вскоре после этого уже не было больше никаких заграничных игрушек; русские – были из дерева, вырезаны вручную и весело раскрашены, но мы их не очень любили.)
После обеда в нашем доме состоялся детский праздник. В конце большого Бального зала поставили чёрный шкаф, на котором прыгали рывками вверх и вниз куклы-марионетки.
В длинных рядах сидели дети – как куклы на легких золотых стульчиках, – маленькие девочки с бантами в волосах, в вышитых нарядных платьях тонкой работы поверх светло-голубых и розовых нижних юбочек и мальчики в матросских костюмах, у которых под четырехугольными воротниками качались свистки.
Затем мы поднимались по лестнице вверх к узкой площадке над полированной деревянной катальной горкой. Сильный толчок, и… ух! Вниз к няне, которая ждала, чтобы поймать меня; между делом она взывала к толкающимся мальчикам: «Ведите себя, как подобает маленьким джентльменам!» – «Я не хочу быть джентльменом!» – крик протеста, исторгаемый бесчисленное количество раз поколениями детей во всей Европе, но няни неколебимо продолжали свои старания.