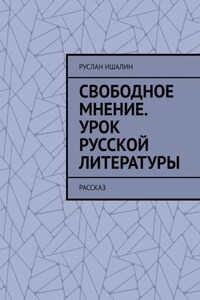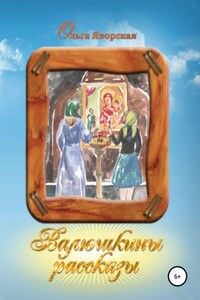© Евгений Сухов, текст, 2024
© РИПОЛ классик, оформление, 2024
Мы луну из затона вытаскивали. Большущую, из червонного золота. Сетью. Ту, что только взошла над затоном и полнеба занимала. Вытаскивали и понять не могли: зачем? Но всё равно пытались. А она сквозь ячейки проходила, волновалась, когда мы сеть набрасывали, но так и осталась на месте.
Волны-то на воде от чего появлялись? От волнений, конечно. От волнений луны.
Глупые. Но интересно было: а вдруг получится? У нас бы луна была!
Но не получилось, и мы свалились в воду.
Луна, правда, не ушла от нас – боялась, что мы утонуть можем. Но мы не могли утонуть: луна-то из червонного золота, да и вода в затоне в этом месте такая же, тяжёлая.
Не могли мы утонуть.
Мы плавали по луне и тоже стали золотистыми. А потом легли на спину и смотрели на луну. А она на нас. Было тихо-претихо. И только вода плескалась. Лунная вода. И она рождала музыку, лунную музыку.
Далеко-далеко небо освещалось зарницами.
И рокотали басы. Это в преисподней. Но они были даже приятны. Так, видно, надо, чтоб в преисподнюю идти не страшно было.
Я был нигде – спал и не спал. Но голоса слышал хорошо. Они вели меня, звали туда. А я не хотел идти, мне и здесь хорошо.
Вдруг там взорвались молнии женских голосов.
Я испугался.
И тут же благость детских голосов – стали славить Деву Марию… или преисподнюю.
Я купался в этой благости, и мне стало всё равно, куда они меня зовут.
Пение было чудесное. Я попал во что-то, что было со мной в прошлом, совсем далёком.
И от этого я вот-вот должен был исчезнуть, превратиться в музыку. Ещё мгновение… Оно так томительно, сладко…
Но всё сметает фортепьяно с улицы. И я вышел на балкон. У мусорных баков средь развала книг стояло пианино. И на нём играл дивную мелодию в засаленном концертном костюме с бабочкой на несвежей белой рубашке, с немытыми патлами, но безукоризненно выбритый человек.
Вокруг на книгах сидели и возлежали зрители с бутылками, девицы с собаками.
Как он играл!
Казалось, что звучит всё вокруг: и дома, и тополя, и мусорка.
Да само пространство было соткано из музыки, солнца, едва заметного чуда, зелени деревьев… Всё только возрождалось.
И я…
Но тут сигналами из преисподней прозвучал рёв полицейских машин, и явились посланцы оттуда. С автоматами.
На них никто не обратил внимания. И только один из слушателей, сидевший на троне из книг, передёрнул затвор воображаемой винтовки.
– Что за праздник? – спросил посланец.
– Сольный концерт лауреата премии Жопена и других престижных международных премий.
– И в честь чего?
– У Максима Максимыча отца день рождения.
– А почему не дома отмечаете?
– Нет у Максима Максимыча дома. Мошенники отобрали. А отца полицаи в войну раненного повесили.
Максим Максимыч держал палку, как винтовку.
– Но вы нарушаете… В общественных местах пить запрещено.
– Помойка что, общественное место?!
– Вообще-то да. Наиболее нужное обществу место.
– Любому. Без неё и не туды и не сюды. Очень общественное.
– Не на книгах же! – возмутились полицейские.
– Раз выкинули, значит, и они – помойка.
– Это сочинения классиков, – не унимались полицейские.
– Ай да классики!
Творили они классно,
И пить на них прекрасно!
В чудесном заведении,
Таком вот окружении,
Средь кандидатов, докторов,
Проституток и воров,
Внимали музыке Жопена.
У той под попой «Идиот»,
У этой ж бард ей греет зад.
Был алкоголик, наркоман,
И за него выпьем стакан,
А он под зад ей стих писал.
Да здравствует помойка та,
Что в гении его взвела!
А власть заслуженность дала.
– Перестаньте паясничать!
– Во так так! А где свобода слова у демокрадов для народа?
– Народ-то нетрезвый.
– Таким легче управлять.
– И помыкать.
– И сажать.
– Тех, на ком всё держится.
– И расстреливать, как в девяносто третьем.
– По доносу и требованию самой передовой части столичной интеллигенции.
– Не всей. Только изькюственной. Как бы вроде народной, заслуженной.
– Не скажи, даже очень естественной для власти. Недаром их званиями обложили.
– И мы их готовы обложить. Нет-нет, не ненормативным жаргоном. Мы их обложим мягкими-мягкими, нежными-нежными мальчиками.
– Прекратите! Сдали б книги в магазин.
– И что получишь? Себе дороже.
– Вас надо оштрафовать.
– За классиков? С хрена ли! Даже у либерал-демократов в законе не прописано, что помойка – общественное место и её нельзя в целях, не предназначенных по назначению, употреблять. А что не запрещено, то разрешено. Мы законы блюдские блюдём-с глубоко.
– Не на книгах же!
– Раз на помойке, значит, часть помойки, под закон проходит.
– Это же наше наследие, культура.
– Ребята, – сказал солист полицаям, – возьмите пианино. Хорошее, теперь таких делать не умеют. И книги. В отделение поставите.
Полицаи промолчали, куда-то позвонили. Попросили больше не концертировать в общественном месте. Жильцов не беспокоить, не мешать. Культурой у телевизора наслаждаться. И уехали.
А жильцы с балконов просят ещё играть. Кричат:
– Из репертуара примадонны Пукиной!
– Аллы.
– Куски.
Или письки. Не слышно. Всё одно.
– Давай любое, что по телику гоняют.
– Жлобье! А что ментуру-то вызывали? – спросила девица с псом.
Пианист играть не стал. Он позвонил в колокольчик, что висел у него на груди на ленточке от престижной награды. И ему подали на подносе – томике Ахматовой – гранёный, с отбитым верхом бокал водки. На втором подносе – творении Солженицына – закусон. Как и положено, наижирнейшую, наинежнейшую, с душком (как во времена далёкие, теперь почти забытые) селёдочку на тонком хлебушке с маслицем.