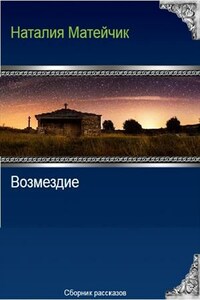КОСТРОМА И КУПАЛА
- Кострома! – слышу я из тумана, что мягкой шалью окутал придорожные колючие кусты, слышу, как трещат сучья и шелестит трава… И вот на поляну выбегает брат – лунноволосый, востроглазый, глядит он, чуть нахохлившись, словно воробушек на дождь, рубаха на нем с коловратами алыми, из льна беленого, а кудри серебристым обручем схвачены.
- Здесь я, Купала! – я щурюсь на солнышко, что на изломе лета печет и сушит леса наши да луга разливные. В чаще в полудень хорошо, тенисто, на полянах вот разве что марево дрожит золотое да жжется Ярило пресветлый, лучи-стрелы свои пускает.
- Ты зачем в лес ушла? Запретно нам к еланям этим ходить, тропы лесные обморочить могу, в царство Нави увести! – взволнованно шепчет брат, то и дело оглядываясь по сторонам, будто боится, что лесавки да лешачихи на поляне соберутся, уведут в сумрачную чащу, в погибельный ельник – и вовек тогда назад не вернешься. Пропадешь для мира Яви, мира людей. Развеешься дымом от костра, разлетишься пеплом по белу свету, инеем морозным на травы первые весенние ляжешь… Опасна чаща лесная.
Заухал филин, вздрогнул Купала, нахмурившись – чего это птица ночная среди дня голос подает? Не к добру это.
- Пойдем домой, Кострома, пока беды не вышло…
Но гляжу я на брата с улыбкой – не страшен мне темный лес, хочу я услышать, как дивно поет птица-Сирин с опереньем радужным да золотыми крыльями. Говорят, нет слаще в мире ничего песен ее дивных. Вот на этих ветках дуба старого, с вывороченными над землей корнями, сказывают, и любит Сирин петь. Дождусь…
- Погоди немного, Купала! Все одно уж забрались в чащу, - голос мой жалостливый, я за руку братца беру, веду к дубу. – Послушаем, как вещая птица поет, и сразу же домой пойдем!
На беду, на тоску и печаль свою согласился брат мой дождаться песен Сирин. Да только обморочила она несчастного, уснул он, едва звонкие песни услышал. Лились они по лесу хрустальным ручейком, колокольчиками серебряными звенели, ветром весенним неслись, забвение и покой дарили… Налетели гуси-лебеди с чужой стороны, унесли брата моего в Навье царство, осталась я одна в мире Яви, и наказали меня боги пресветлые тем, что сколь ни рождалась бы я, все помнила – о том, как брата в чащу свела, о том, как потеряла его навеки.
Искать мне Купалу моего ночами беззвездными, жечь костры в излом летний, на солнцеворот, да только не закончится, видать, жизнь моя тоскливая – сколь ни плачу, сколько ни прошу богов о помощи, наказана я. Все помнить, все знать, искать Купалу во тьме – вот судьба моя. И даже если забудется что – то стоит мне увидеть костры в излом летний, то вспоминается брат мой украденный, в Навь унесенный…
В купальскую ночь в деревне всегда весело было - игрища, прыжки через костер, молодежь поет, плетет венки, по реке их со свечами тонкими восковыми пуская. Нравилось мне всегда к баушке приезжать летом – с самого детства, сколько помнила себя, рвалась к ней, сказки ее послушать, в лесах побродить… Привольно в деревне, хорошо, даль солнечная луговая манит уйти, потеряться в просторе этом, травы волнами зелеными плещут, в полный мой рост поднимаются, а из лесов птичьи трели звенят, река шумит за яром, лещиной заросшем…
И вот с венком своим, из веток березы кудрявой сплетенной, из трав дурманных да ромашки луговой, спешу я с подружками к реке, тропой узкой, по краям камыши да осока, илом пахнет… мостки деревянные подгнили, опасно по ним идти. А все ж с Анютой спустились к берегу, на мостки зашли осторожно, хорошо, что юбки не слишком длинные, не пришлось подбирать их, боясь намочить.
- Катюш, не боишься? – Анюта второй год венок пускала, мне же впервой было.
- Страхово чуток, но и любопытно больно… - призналась я. Того года у одной девчоночки венок потонул, едва от берега отплыл, так она и месяца не прожила – нашли несчастную на заливном лугу, врачи сказали потом, что у нее порок сердца врожденный был, приступ случился… Да только старухи об ином шептались – мол, русалки защекотали, забрали себе свое.
Склонилась я к воде – зеленоватая она, мутная у берега, от ила и водорослей, что на дне качаются, дрожит в отражении мое узкое лицо, бледная я, перепуганная… Коса расплелась, небрежно на грудь упала, на майке – травянистые пятна, уже изгваздалась где-то, баушка заругается… в деревне-то в корыте еще стирают, полощут на реке. И не успела я венок на воду опустить, как тут же рука чья-то загорелая выхватила его, свечу потушив.
А в отражении показалось лицо парня вихрастого, глазастого, в простой рубахе деревенской. Красивый…
- Поймал я твой венок, красавица.
Обернулась я всполошенно, вмиг вспомнив прошлое – и брата своего несчастного, и проклятые песни птицы-Сирин… и показалось, что паренька я этого видела когда-то. Но отогнала мысли темные – нет Купалы больше в мире этом, и быть не может.
Протянул мне паренек руку, и улыбнулась я, цепляясь за его ладонь, чтобы не упасть в воду.
- Моя ты теперь, красавица…
ЗЕРКАЛО
Среди тенистых хвойных лесов севера, истекающих янтарными смолами, высится на скалистой гряде старый замок. Он похож издали на спящего дракона – приземистый серый донжон - его тело, башенки – будто острые шипы на спине, зубчатая крепостная стена – словно хвост, обвивающий чудище. Прежде над замком вились алые стяги с зелеными трилистниками, несли службу рыцари в сверкающих латах, а вокруг были разбросаны селения – благостно жили люди под твердой рукой своего владыки, царили в королевстве покой и счастье. Не вел король Дагоберто Справедливый кровопролитных войн, не душил подданных налогами, богатой казна его была, ведь обласкан он был заботой дивного народа, что жил на границе с его страной.