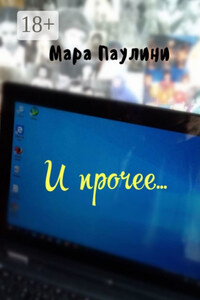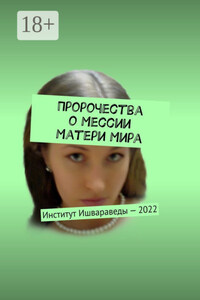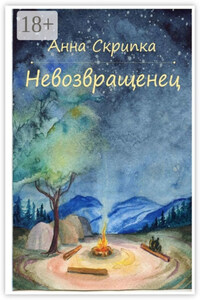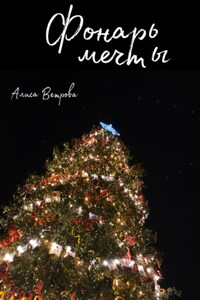Тихий спокойный водоем, предвещающий бурю, – финский залив. Огромные асфальтные тучи, недвижимые и вечные, нависшие над водой (Пропускаю букву «с», будто бы ее нет. Но с какой стати ей вообще быть?), почти колются грозой. Другого берега не видно из-за тумана, и на горизонте маячит какое-то предчувствие, что-то колыхается и грохочет, в спину уставились чьи-то глаза и дует северный ветер, разрывая полуденную предгрозовую духоту, и почему-то от позвоночника разбегаются муравьи и тело парализует то ли от самих внезапных порывов, то ли от их переизбытка.
Город замер, затих, исчез, не слышно ни рокота машин (что за слово такое – рокот?), ни завываний, ни сумасшедших залпов бессмысленных слов, брошенных, чтобы быть брошенными, в перерывах между кофе и сном. Небо склонилось, и готово упасть на голову или просто ее раздавить, задавить каплями размером, по ощущениям, с кулак, как заваливает камнями в шахте. «Воздуха, воздуха – самую малость бы, самую-самую!» Поднял голову. В такую погоду это особенно тяжело.
Две чайки кружат в небе, борясь с ветром и суровым взглядом Вселенной. Я отвожу глаза и передо мной – ничего; пустота; истинное лицо всего на этом свете, белое, как дым от десяти палочек благовоний с запахом сырости, леса и облаков, которые зажгли в очень маленькой комнате, и вот они расширяются и расширяются, дифузясь и заполняя собой все, превращая его в себя – в ничто, порожденное отсутствием. Только чайки, значит, реальны, но… Взгляд соскользнул с ничего, пытаясь выхватить из пространства образы, пытаясь зацепиться за чаек хотя бы восьмым чувством; тщетно. Чайки – иллюзия; они растворились в облачной бесконечности, слились с водой и пространством и стали – раками, скорпионами, рыбами. Да, рыбами они действительно стать могли.
Но в этих водах никто не плавает, кроме пораженных отчаянием и всяческими болезнями и страдающих существ, которые бросаются на рыболовный крючок со страстью самоубийцы, чтобы их наконец спасли от этой жизни – с самой маленькой буквы.
Однажды в Германии мы с мамой поехали в Нойшванштайн, замок потрясающей красоты на высоких склонах альпийских гор, где воздух колючий, хрустящий и алмазно-чистый, где веселые деревенские жители поют по утрам йодли и лихие рабочие песни, выгуливают коров на горных лугах, овцы пасутся там на изумрудно-зеленых травах, а облака, как и везде, плывут медленно и спокойно, олицетворяя собой вечность, и всем – хорошо. Альпийские склоны тогда утопали где-то вдали, светило солнце, а лошадь несла нас по серпантину ввысь, и я думал, что у горы нет конца, что мы будем вечно вот так скакать, слушать йодли и возгласы кучеров, блеяние овец и шепот травы. Но мы все-таки приехали. Так вот, там был пруд с кристальной водой, кувшинками и оранжево-белыми карпами, которые плавали, ощущая себя королями природы, верхушкой мира, и при том не претендуя ни на какое первенство, отрицая иерархическую систему. Я чувствовал в них жизнь лишь опустив руку в воду – этого было достаточно, чтобы слышать рыбьи мысли и разговоры, и чтобы самому попытаться установить с ними теплые дружеские отношения, заявить всему живому, что я – с миром, что я – часть их душевной плавниковой компании. Мы подружились сразу же, я сидел там несколько минут и смотрел на их безмятежность. Этого мне хватило, и я понял – то были действительно счастливые рыбы.
А рыбы в финском заливе – напуганные, системные, не-свободные, плавающие строем, и такие серо-зеленые, словно каждый день видят призраков своих погибших друзей и пугаются как в первый раз. А кто-то еще позволяет себе их есть.
Туман сгущался, клубясь над городом в попытках его проглотить, и день случайно проваливался в вечер, хотя было всего 3 часа, когда я вышел пройтись. Воздух приобрел плотность и цвет, сквозь него было сложно (читать: жутковато) идти, даже несмотря на то, что мысль о существующем, или, по крайней мере, когда-то существовавшем солнце, маячащая на краю разума, немного грела душу. Я помню один туман, в который меня однажды затянуло, и я пропал. Это был фестиваль для свободных душой далеко от мира в полях, и по вечерам туман начинал расползаться, шириться, наполняясь иллюзиями этого огромного помысленного мира. В тот вечер я не мог видеть дальше собственного носа, все звуки сдавливались и еле доносились, даже вдыхалось тяжелее, и я вдруг оказался в реке, где вода будто стала гуще и по консистенции приближалась к сметане или киселю. И я плавал, прикладывая всю свою мощь, обретенную в ежедневных практиках йоги, чтобы разгрести подступающую мину ключа, выбить себе лишний миллиметр пространства, по которому движешься ты или нет – понять невозможно. Я плыл, медитируя, отключившись от реальности, не видя и не слыша ничего вокруг, затянутый в кисель с рыбами, которые наверняка застыли, пережидая, только люди ведь не могут просто застыть, пусть даже все вокруг тебя – лимб без начала и без конца. И я почувствовал себя рыбой, попробовал застыть, будто вода – уже не сметана, а шоколадный пудинг, или хотя бы брусничное желе, и действительно застывал, не дыша и не ощущая. Я плавал где-то между мирами, пребывал в тягучей невесомости, пространство исчезло, и исчез я. Плавал всю ночь, без мыслей и целей, постигая желанное не-деяние, а когда поднялся сквозь крапиву и донник вверх к лагерю, уже был рассвет.