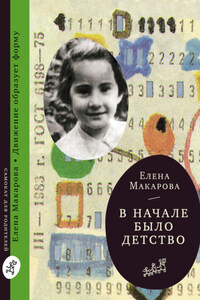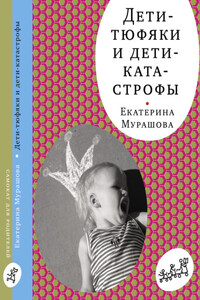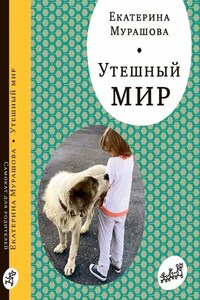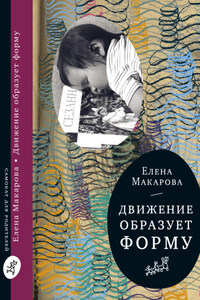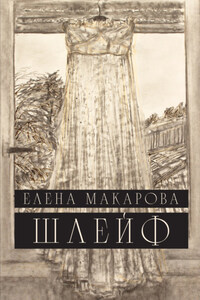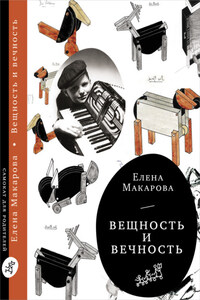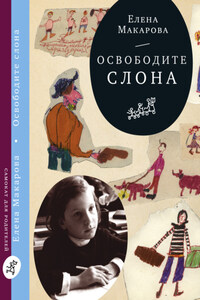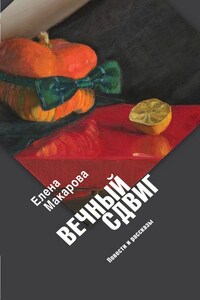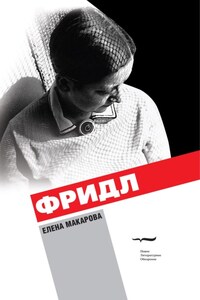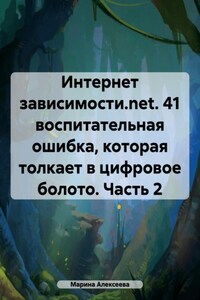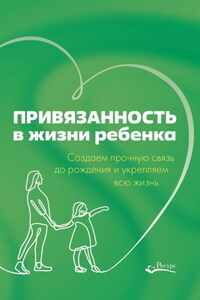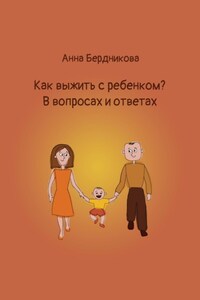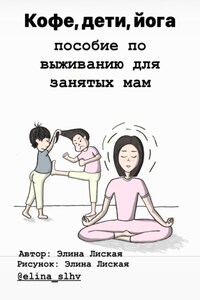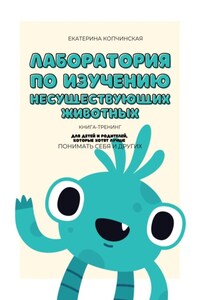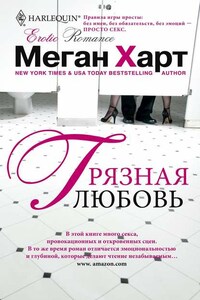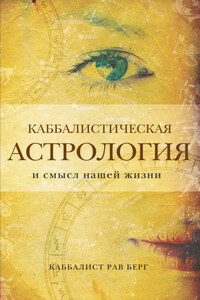Владимир Павлович Эфроимсон прочел рукопись этой книги в 1985 году и написал на нее многостраничную рецензию.
«Я исписываю страницу за страницей, – писал он мне, – и молю Бога, чтобы Вы ничего не вставляли в свою книгу. Она не последняя, пусть все, что годится, войдет в следующую книгу».
Прочтя тот, двадцатилетней давности экземпляр, я решила написать на его материале «следующую» книгу. В нее я перенесла «все, что годится», включая и комментарии Владимира Павловича.
Эфроимсон пережил тюрьмы, лагеря и войну. И при этом он утверждал, что человек – существо изначально нравственное, способность мыслить и способность различать добро и зло записана в его генофонде.
Мне неслыханно повезло с учителем. И поскольку тема «учитель—ученик» – сквозная в книге, то позволю себе рассказать об истории моего знакомства с Эфроимсоном. В 1983 году мы впервые сняли дачу в Каугури (она описана в «Лете на крыше»), потом мы приезжали туда каждое лето. У хозяев часто собирались друзья, с которыми они, осужденные в свое время по 58-й статье, провели в лагерях много лет. Хозяева относились ко мне доверительно и иногда приглашали «выпить за компанию». Как-то один из гостей поднял тост за старого профессора, генетика. «Это был самый потрясающий человек, которого мне довелось встретить в жизни. В лагере. Будь он жив, я упал бы пред ним на колени».
– Может, это Эфроимсон, автор статьи «Родословная альтруизма»?
– Да, да! Так его и звали! Неужто он жив? Он и тогда выглядел стариком.
Вернувшись в Москву, я навела справки. Эфроимсон жив. Ему даже можно позвонить. Я позвонила.
«Погодите, – отозвался мужской голос и пропал в трубке. Через минуту голос явился снова. – Я запасся валерьянкой, можете говорить все что угодно». Я рассказала ему о встрече в Латвии. Эфроимсон вскипел: «За такие слова вашего знакомого следует спустить с лестницы!» И, помолчав, добавил: «Вот что, любезнейшая, приезжайте ко мне прямо сейчас, есть запас чистого белья. Где вы находитесь, откуда звоните?» Видимо, он принял меня за приезжую из Прибалтики, которой негде ночевать.
Эфроимсон встречал меня у метро «Юго-Западная». В сером пальто, высокий, в шляпе – в темноте он был похож на упитанного кондора.
В ту пору его книги о генетике и педагогике, генетике и этике, о биосоциальных факторах повышенной умственной активности – еще не были опубликованы. Пожелтевшие страницы рукописей стопками и россыпью покрывали пол большой комнаты. Со стен свисали ошметки обоев.
Эфроимсон усадил меня в кухне, среди банок, кастрюль, бутылок из-под минеральной воды, кружек и газет, выудил очки из тарелки, полной таблеток, пузырьков и прочей медицины, и, водрузив их на орлиный нос, внимательно на меня посмотрел.
«Будем есть винегрет и пить чай! – указал он на миску с вареными овощами. – Хватайте бутыль с рафинированным маслом, не будем разбазаривать драгоценное время!»
В тот вечер Владимир Павлович засыпал меня вопросами. Кто я, откуда, что делаю, сколько у меня детей, чем занимается муж, что я читаю, что пишу, где работаю, даже снятся ли мне сны и если да, то какие.
Мягкая улыбка Эфроимсона, частые кивки, выражающие согласие и поддержку, свет, исходящий от всей его личности, – привели меня в состояние некоего транса. За «транс» меня бы Владимир Павлович отругал, но других слов не подобрать. Об одном я сокрушалась – столько лет упущено! Почему я не позвонила ему, как только прочла его статью? Владимир Павлович «утешил»:
«Это Вы-то говорите – упущено! Меня вот просто обокрали! Лишили отпущенного мне времени, а науку – открытия, которое мне предстояло совершить! Вместо этого я играл с урками в шахматы и валил деревья! Мне отбили – били и отбили – я не фигуральничаю – память, и теперь я вынужден по сто раз на дню бегать в картотеку! Память убита в подвале Лубянки, в доме, где я, между прочим, родился и вырос!»
В летние месяцы – время нашей разлуки – он присылал мне толстенные письма. Разрозненные заметки были соединены скрепками. Там было все: о причинах возникновения СПИДа, о том, как умело использовал Гитлер «Сагу о Нибелунгах», о Лысенко и его мафии, гигантофобии, синдроме Морриса, ранней оптимизации развития, Гитлере и Сталине, председателе Мао, об убийстве Мирбаха, после которого были сметены с лица земли эсеры.
К письмам прилагались «Рассуждансы» – обрывки мыслей, пришедших «по ходу», которые он записывал на бумажках в четверть тетрадного листа.
«Леночка Григорьевна, никак, ну никак не могу удержаться от того, чтобы не послать Вам парочку документов эпохи, хоть они никакого отношения к делу не имеют. Наиархипреданнейший Эфроимсон».
Его «Рассуждансы» достойны отдельного издания, но все же никак, ну никак не могу удержаться от того, чтобы не привести «Рассуждансы» на тему «Экономь думать!»
«Я абсолютно убежден в том, что 98—99 % потенциальных талантов губят ясли, детские сады, школы с 40-а учениками в классе, и что это вредительство намеренное и целенаправленное. Помните, у Шекспира Юлий Цезарь говорит: “Вот у Кассия мрачный взгляд. Он слишком много думает. Такие люди опасны”. Понятно?
Покойный Крушинский (о нем при встрече – завяжите узелок) экспериментировал на животных. Его основной вывод – думать трудно. И если крысе, вороне, курице поставить задачу трудную, требующую перестройки стереотипа, у нее (крысы) начинаются судороги, полная растерянность, бессмысленные метания.