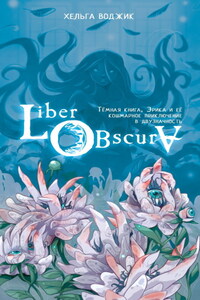Неподалеку отсюда детская площадка. Калитка закрыта, но не заперта и легко открывается с тихим скрипом. В это время ночи площадка, конечно, безлюдна, и я знаю, что до рассвета могу поспать здесь. От времени, что меряют часами, мне толку мало; я ориентируюсь по свету дня, по тому, как он набирает силу, а затем угасает. Это и есть мои часы, какими они были когда-то для всех людей в мире. Размышлял сегодня о прошлом, об Эмите и о фруктах в моих карманах, еще теплых. Удивительно, что он в свои семнадцать вообще обо мне думает. Знаю его уже целое лето, осень и почти всю зиму. И вот теперь он приносит мне апельсины, в то время как другие – лишь хаос и грязь.
Земля здесь посыпана древесной щепой; под горкой, где сухо и от сил природы защищает широкий жестяной скат, образовался сносный матрас. Раньше, когда я слишком хорошо разбирался в цифрах, но слишком плохо – в науке о выживании, пытался спать в тоннеле: укрыться в нем еще можно, но спать в изогнутой трубе подобно смерти. И вот теперь я залезаю под трубу, рву на части газету и скатываю из бумаги шарики размером с яблоко. Финансовые новости читать я больше не могу, поэтому розовые страницы идут в расход первыми. Набиваю шариками рукава – шерстяной свитер раздувается, и я становлюсь похожим на Халка. То же самое проделываю и с джинсами. Бумага и получившиеся воздушные карманы задерживают тепло, согревая тело. Оставшиеся шарики засовываю в сумку к эмитовским апельсинам, получается подушка. Запах апельсинов у изголовья успокаивает.
В голубом лунном свете вижу лишь потускневший металл горки. Ее скат поднимается снизу вверх, вызывая у меня головокружение. Головокружение. Мама писала научную работу о фильме «Головокружение» и о Прусте, о том, сколько первый позаимствовал у второго. Мадлен Элстер, так звали хичкоковскую героиню. Мама говорила, связь очевидна. Здесь соединились прустовское печенье мадлен и его персонаж – художник Эльстир. И в конце концов, разве «Головокружение» не про желание вернуть потерянное время? Разве не вид зияющей бездны породил это головокружение?
Мама была прежде всего ученым – из тех, кто лишь через взаимодействие с искусством мог вырваться из гравитационного поля физического мира. Она была без ума от Ротко. Я же так и не понял его абстракций. Ну какой может быть смысл в картине, где изображены просто-напросто четыре цвета. «Это ведь и есть самое удивительное, Ксандер. Что человек, используя лишь четыре цвета и не применяя никакой особой техники, смог нарисовать забвение. Разве тебе это не кажется потрясающим?»
Она была из тех, кто стремится в стратосферу, а я все тяготел к земле, чтобы уткнуться носом в грязь и учебник по физике.
«Ты уверен, что хочешь изучать науки? – спросила она однажды. – Не так уж сильно ты похож на отца».
«Знаю».
И как только она не видела – именно этого я и не хотел? Не хотел становиться им. Ни за что на свете. Но с четырьмя высшими баллами сумел поступить в Кембридж, чтобы изучать математику. Не та наука, не та научная степень, чтобы кого-то впечатлить, но все же для людей, в отличие от меня, это кое-что значило.
– А ну свалил с моего места!
Резко вскакиваю, бьюсь головой о горку и тут же чувствую помутнение и звон в ушах после удара мокрым ботинком по виску. Я кричу, пытаюсь прийти в себя, но жгучая боль затмевает все. Она пульсирует, стучит, сковывает меня, хоть я и должен приготовиться к драке. Продираюсь сквозь нее наверх, жду, когда мои стреляющие во все стороны сразу синапсы позволят вернуть контроль над телом. Мои глаза закрыты, и вот уже боль чуть утихает – достаточно, чтобы я мог пошевелиться.
Сощурившись, приглядываюсь: он меньше меня. В это же время и он смеряет меня взглядом, осознавая то же самое. Я всегда был большим. С пятнадцати лет всегда занимал полтора места. Не толстым, нет, и даже не мускулистым. Просто большим. Кости как закаленная годами сталь.
Прохожие на улицах стараются меня избегать. Сборища разных людей, здесь и там, кто с дурными намерениями, кто с благими, все ведут себя одинаково. Обычно они кружат вокруг меня, но близко не подходят, чтобы не нарваться. А я и не против того, что они держат дистанцию. Пусть не подходят. Мне ни к чему компания, которую они так жаждут найти друг в друге. Поэтому они оставляют меня в покое, а я оставляю их – со всеми наркотиками, алкоголем и лающим смехом. А если мне иногда и хочется поговорить, тут же себя одергиваю: уж точно не с ними.
– Мое место, гондон, – говорит человек.
Его голос такой глубокий, что у меня в груди аж вибрирует. Под действием алкоголя фраза загибается по краям. Ему около сорока, но точно не скажешь – годы, проведенные на улице, врезаются в кожу глубже. В любом случае он куда моложе меня. Смотрю ему прямо в глаза, надеясь отыскать хоть намек на эмпатию, но вижу только, что он хорошенько поддатый.