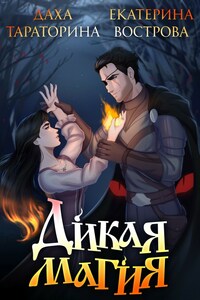- Прости, серденько моё! И жена-то
из меня вышла некудышная, и мать не лучше…
Дочка глядела на неё внимательными
жёлтыми глазами, будто всё понимала. А куда ей понять, младенцу невинному? Мать
и сама-то не ведала, что творит.
Она брела по лесу, качаясь.
Сколько-то уже куска в горло не лезет, сколько во рту ни капли не было? Уже и
молоко давно пропало – нечем ребёнка кормить. А ребёнок и не жаловался. Девочка
не плакала. Молчала и смотрела. И так смотрела этими своими колдовскими
глазищами, что лучше бы вовсе сгинула!
Она, а не любимый…
Желана родила поздно. Ни отец, ни
мать, рано ушедшие в Тень, внуков не дождались. Да и, сказать по правде, не
сильно-то кляла за это судьбу. К чему ей, красавице, дитя? Рядом ведь милый!
Души в ней не чает, на руках носит, белые ручки работой мозолить не дозволяет!
Но всё ж не хватало ему чего-то.
Нет-нет, а спрашивал, заведут ли ребёночка. Желана и сдалась. Да боги
посмеялись: столько она молилась, чтоб чрево ненароком не отяжелело, что теперь
передумывать и одаривать её чадом не собирались.
Где-то совсем рядом взвыл волк, и
Желана вздрогнула. В ночной тишине далеко разносился скрип деревьев, шептались
о чём-то, ей неведомом, листья. Далеко будет слышен и крик несчастной женщины,
выскочившей в лес в одной рубахе и с младенцем в объятиях.
- Прости меня, кровиночка…
Она прикрыла личико дочери краем
одеяльца: та глядела на неё неотрывно, точно и не живая вовсе. И от взгляда
этого делалось страшнее, чем от волчьего воя.
От взгляда этого Желана ночей не спала,
кошмарами мучалась, от него, видно, и умом повредилась. Да и кто бы осудил
вдову?
Пуще неё о ребёнке молился муженёк.
Тризны приносил, к бабкам ходил, спать ложился ногами к печи – всё как деды
учили, чтобы жена понесла.
Никак.
Совсем милый ополоумел. Пошёл в
чащу, упал на колени перед вековым дубом, коснулся теменем бурого выступающего
над землёю корня.
- Всё возьми, хозяин тонколистный!
Всё возьми! Ты кормишь зверей и птиц, ты силу родишь невиданную, ты тайны
хранишь неслыханные. Всё возьми, но одари меня наследником!
И лес взял. Взял всё, что предлагал
ему проситель, а после взял и ещё больше.
Не стало хозяйства, сгорел овин,
полегли коровы. Не стало и самого Огонька. Сгорел, как лучина. И на другой день
после того, как заколотили смертный короб, Желана почуяла под сердцем ношу.
Она брела, не разбирая дороги. Не
шарахалась от ночных хищников, шуршащих в зарослях. Не чуяла холода и голода.
Да и ничего уже не чуяла, с самого рождения дочери. С самого того страшного
дня, как увидела лес в её глазах вместо бесконечной синевы мужниных очей.
Дуб стоял на прежнем месте. Что ему,
дубу? Он стоял здесь раньше, чем родился прадед Желаны, останется стоять и
тогда, когда она сама по земле ходить перестанет. Быть может, случится то
совсем уже скоро.
Она развернула одеяльце. Дочь и не
поёжилась – ей ночная прохлада была что платок шерстяной. Коснулась губами лба
младенчика и опустила в густую траву. Припала на колени, прильнула теменем к
выступающему над землёй дубовому корню.
- Забери! Забери свой дар! –
Казалось, все слёзы Желана выплакала, ан нет – покатились по щекам, горючие. –
Забери, что дал, и верни мне милого! Не жить мне без него, не радоваться
солнышку!
Но дуб ничего не ответил. Не ответил
и лес, только, кажется, темнота, обступившая женщину, стала гуще.
Она до боли закусила себе руку, чтоб
не закричать. Потянулась к дочери… отдёрнула пальцы.
Повернулась и пошла, не оглядываясь.
Оттого не увидала, как мягкая
чернота укутала ребёнка, как зашевелились, выпутываясь из корней, лохматые нечистики,
как устроилась на груди у ребёнка и завела песнь старая жаба.
Она брела по лесу, качаясь, и не
чаяла выбраться.
Семнадцать лет спустя
Лес не то чтобы считался гиблым
местом, но ходить в него без надобности всё ж опасались. А уж в такой час,
когда мёртвый лунный свет обливает нагие деревья, когда поганки мерцают
ядовитыми слезами, когда всякий скрип ветки чудится плачем русалки…
Вот только бредущая по чаще девица
леса не страшилась. Не страшилась она и ползучих гадов, что пока не успели
спрятаться на зиму в норы. Шла босиком.
Голодные волчьи глаза, наблюдающие
за нею из-за облезлого орешника, девица приметила, но даже с тропы не свернула.
Лишь ответила зверю прямым чистым взглядом, и тот склонил ушастую голову, приветствуя
молодую госпожу леса.
За девицею следом ползли тени.
Чёрные, тягучие. Лунный свет не мог прогнать их, серебряные лучи захлёбывались
во мраке. Они следовали по пятам, готовые вцепиться в босые ступни, лишь только
девица замедлится.
Цап! – и нету беспечной красавицы.
Запачкает чернотой загорелую кожу, зальёт пышные волосы, упавшие на открытые
плечи.
Девица остановилась поправила ворот
рубахи не по размеру, что всё норовил свалиться. Подумала и подвязала подол
юбки к поясу – не запачкать. Тени позади неё замерли тоже. Почтительно
подождали и вновь потекли за госпожой, когда та свернула к трясине.
Босые ноги звонко шлёпали по мокрому
мху, болотце чавкало, неохотно выпуская добычу, но всё ж подставляло под каждый
шаг кочку, чтобы девица ненароком не угодила в бочаг.