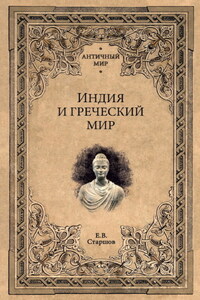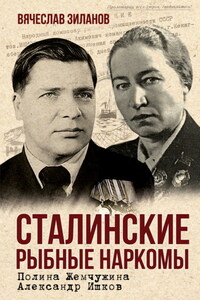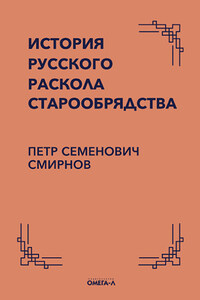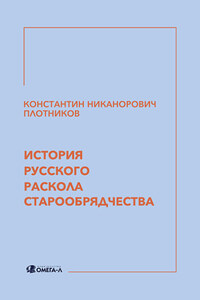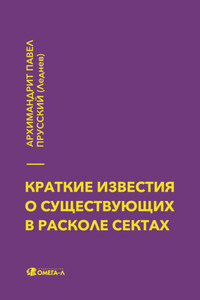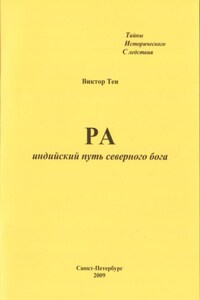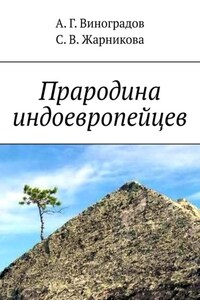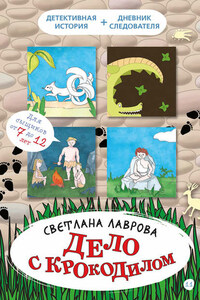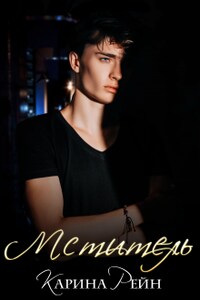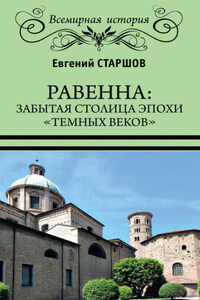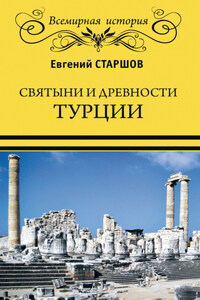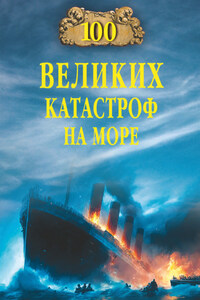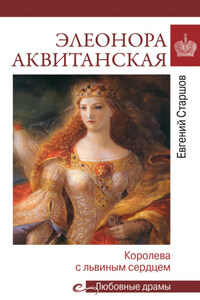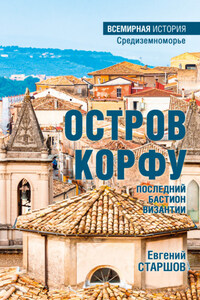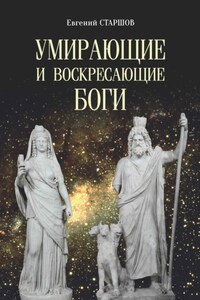Невозможно сыну воздать его родителям за их милостивую доброту, даже если бы он мог нести своего отца на правом плече и свою мать – на левом на протяжении ста лет. И даже если бы он мог омывать их тела благовонными маслами сто лет, быть идеальным сыном, завоевать для них трон и отдать им все богатства мира – все равно он не смог бы воздать им в полной мере свой величайший долг благодарности.
«Учение Будды» («Ангуттара Никайя» 2–4, «Самачитта-сутра»; пер. с англ. – Е.С.).
Широко известны строки блестящего представителя британской «колониальной литературы» Редьярда Киплинга (1865–1936 гг.), родившегося и проведшего многие годы своей жизни в Индии: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, // Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд». Конечно, в наш причудливый век глобализации и устранения разного рода границ (к сожалению, и в морали тоже) они кажутся несомненно устаревшими, однако относительно прошлых эпох и веков вроде бы актуальны. И тем не менее…
Казалось бы, что общего может быть у греко-римского античного мира с Индией? На первый взгляд, как будто бы и ничего, исключая разве что всем известный поход туда Александра Македонского (356–323 гг. до н. э., правил с 336 г.). На поверку же выходит, что культурно-исторических связей этих двух миров – с избытком, и начались они гораздо ранее «Индийской кампании» двурогого Искандера, как о том повествует история философии. Конечно, бурная эпоха эллинизма, которой дал начало македонский царь, объединяя Восток и Запад, катализировала эти связи, проявившиеся не только на философском, но и на военном уровне. Но процесс интеграции – двусторонний: получили существование индо-греческие царства, и один из тамошних греческих царей, Менандр I (правил примерно в 165–130 гг. до н. э., по-индийски – Милинда), известный по одной из классических книг древнего буддизма – «Вопросы Милинды» – вел богословские диспуты с буддистами, сам принял учение Будды (563–483 гг. до н. э.) и более того – после смерти был признан архатом – просветленным, вырвавшимся из круга перерождений, буддийским святым. Не меньшее удивление вызовет сообщение о том, что Будда фактически почитается в христианских святцах под именем святого праведного индийского царевича Иоасафа, порукой чему – «отец» первой законченной системы христианского богословия св. преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753 гг.), автор религиозно-философской книги «Сказание о жизни преподобных Варлаама и Иоасафа», широко знаменитой и в Византии, и в Древней Руси. Для нее он использовал не только историю Будды, но и отдельные буддийские притчи (равно как и произведения ранних христианских авторов – апологета Аристида и пр.) – только перенес время действия на несколько столетий вперед, уже в христианскую эру. Даже имя главного героя он фактически сохранил, ведь «Иоасаф» – не что иное, как несколько искаженное «Бодхисаттва»… А популярность назидательного и притом экзотического сочинения постепенно привела к почитанию ее главных героев (включая царя Авенира – раскаявшегося гонителя христиан и отца Иоасафа) в лике святых (память их – 19 ноября старого стиля, 2 декабря нового стиля). Это все не еретические измышления автора, такова же точно точка зрения одного из современных авторитетнейших исследователей буддизма – Е.А. Торчинова, выраженная в его «Введении в буддизм», и Г.М. Бонгард-Левина – в статье «Религиозно-философские течения Древней Индии и античные течения». Мы же укажем конкретно, какие сутры использовал св. Иоанн, и дадим их перевод с параллельным текстом Дамаскина.
Я не случайно ввел в название книги термин «греческий мир», а не греко-римский, и не античный (тем более что последнюю форму уже «узурпировал» сборник 2002 г., о котором – чуть ниже). Оно вернее, в том числе хронологически. Исследование начнется со времен зарождения и расцвета древнегреческой философии, еще до эпохи эллинизма и покорения Греции Римом – причем не только в «самой» Греции в ее теперь привычных нам балканских границах, но и в таких неотъемлемых составных частях Древней Эллады, как Иония (на западе Малой Азии) и Великая Греция (в Италии и Сицилии), зачастую культурно и интеллектуально бывших «впереди» балканской части. А завершится оно ранневизантийской эпохой, конкретнее – VII–VIII вв., когда Восточная Римская империя, более известная как Византия, утратив на западе Италию, на юге – Египет и Латинскую Африку, а на востоке – Месопотамию, Сирию и Палестину, станет как раз не чем иным, как «греческим царством», сконцентрировав свои жизненные силы на Балканах и в Малой Азии.
Отдельные аспекты «индо-греческого диалога», в первую очередь философия и искусство, рассматривались ранее. Можно назвать такие известные работы, как «Пифагор и индийцы» Л.Ю. Шредера (1888 г.), «История индийской философии. Греческая и индийская философия» М. Роя (рус. изд. 1958 г., автор довольно специфический, сравнению должного внимания, к сожалению, не уделяет), «Платон и ведийская философия» С.Я. Шейнман-Топштейн (1978 г., переизд. 2010 г.; содержит также хороший сравнительный обзор философии доплатоников), «Искусство Гандхары» Г.А. Пугаченковой (1982 г.). Однако чего-то общего, с широким охватом, создано не было; исключением могло бы стать издание «Индия и античный мир» (М., 2002 г.), собранное из работ трех авторов – Г.М. Бонгард-Левина, М.Д. Бухарина и А.А. Вигасина. Однако хронологические рамки этого издания гораздо уже, с IV в. до н. э. до IV в. н. э. (у нас – с VII в. до н. э. и до VIII в. н. э.), да и направленность совершенно иная: в частности, там довольно скудно представлен (практически отсутствует) сравнительный философский и религиозный анализ, которому посвящена изрядная часть предлагаемого вниманию читателей сочинения, обойдены надлежащим вниманием поход Александра Македонского, история индо-греческого царства, проникновение христианства в Индию – в общем, все то, на чем сосредоточили свое внимание мы. Правильнее было бы назвать эту книгу-сборник 2002 г. «Отражением Индии в античной литературе» (ее первая часть называется «Маурийская Индия в античной литературной традиции», вторая вот – «Индия и эллинистический мир», но она состоит всего из двух глав, занимающих лишь 14 страниц (!), третья, опять же – «Индия в литературной традиции периода Римской империи»). Еще момент: поскольку это – собрание научных очерков, каждый из них исследует какую-то свою собственную проблему; пусть глубоко, если не сказать дотошно (в хорошем смысле) – но свою; связного изложения взаимоотношений Индии с Античным миром «от и до», которое предлагаем мы, читатель там не найдет. Все вышеуказанное – не то чтобы недостатки, просто это совершенно разные книги, несмотря на схожесть названия: можно вспомнить древнюю индийскую легенду о слепых и слоне – каждый, ощупав зверя, уподобил «ощупанную» часть его известному ранее предмету, весь же слон в его «совокупности» не поддался ни осязанию, ни уподоблению – так и рассматриваемая нами тема настолько «слоноподобна», что не поддается охвату целиком, и каждый, опять же, отображает лишь часть ее, и по-своему. Так что, похоже, опыт такого исследования, предлагаемый вниманию читателей, – первый, по крайней мере в России.