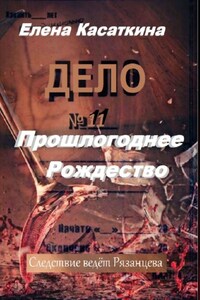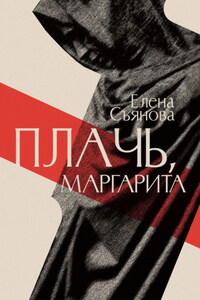Название завершающего трилогию романа о лидерах Третьего рейха родилось раньше названий для первого и второго романов. Еще читая переписку Ивана Шувалова с членами Французской академии наук, я наткнулась на цитату из речи Цицерона: «Правосудие узнается таким способом, что каждый получает свое» (перевод с лат.).
Suum Cuique – «Каждому свое»!
Но еще раньше Платон в своем знаменитом трактате «Государство» ввел это базовое юридическое понятие как один из главных принципов справедливости. Любили платоновскую формулировку и в Новой истории – например, в Пруссии в XVII веке ее сделали девизом военной полиции. XX век привнес свое толкование: германские нацисты извратили это известное изречение, сделав его лозунгом рабского труда заключенных.
И вот, помня все это, я подумала, как же здорово, что история ткнула этих ментальных извращенцев в первоначальный платоновский смысл! И как было бы правильно с документальной честностью описать, как каждый из них платит по счетам Справедливости.
Третий роман, пожалуй, самый документальный из всей трилогии, – и с одного из документов я решила начать роман: «Скажем правду, сэр! Дрались мы с русскими и проиграли им. А вы… все вы сначала ставили им подножки, а когда они через них перешагнули, подставили наконец плечо. Вот и вся ваша роль в этой… истории». Граф Фольке Бернадотт, кому адресованы эти слова, любопытная и неоднозначная фигура в истории XX века, в сентябре 1945 года был вызван в Нюрнбергский международный трибунал в качестве свидетеля – он под эгидой Красного Креста занимался вывозом военнопленных; также ему провели очную ставку и перекрестный допрос с бывшим лидером Трудового фронта Робертом Леем, который и произнес эти слова, обращаясь к Бернадотту, причем заметил, что сейчас только повторяет их, и напомнил об их апрельской встрече на границе Швейцарии, под Обераммергау. Далее стороны произнесли еще по паре реплик, порядком разозлив британского и американского следователей и рассмешив нашего. И обменялись «любезностями»: Лей обозвал Бернадотта «декоративным гуманистом», а тот Лея – «циником и парадокционалистом».
Отмечу, что Роберт Лей, пожалуй, главный «герой» всей трилогии и в самом деле ходячий парадокс – персонаж, не дававший скучать никому от Гитлера и Геринга до Генри Форда и светских львиц Европы. Но слова Лея о наших союзниках мне лично очень понравились.
Документов периода с апреля 1945 года по конец осени 1946-го осталось много: основной массив составляют материалы самого Нюрнбергского международного трибунала, а наиболее интересная их часть – это стенограммы допросов и записки американского психолога Гилберта, работавшего с подследственными. Эти записки частично находятся в общем доступе, но имеют мало общего с подлинником, не прошедшим цензуру и перевод.
К сожалению, несколько таких псевдоподлинных, но далеких от реальных документов весны 1945 года, а также разные мемуары, не являющиеся первоисточниками (их можно квалифицировать как антиисточники) вынужденно использовал в своей работе замечательный писатель Юлиан Семенов. Например, он тщательно изучил мемуары Вальтера Шелленберга, которого немецкие историки-архивисты называют «враль номер 2» (номер 1 – это Шпеер), а в результате мы получили тот обаятельный образ теоретика-интеллектуала, который Шелленберг вдохновенно сочинил для себя в мемуарах. На деле же, жестокий и циничный, этот сукин сын сначала нудно подсиживал Канариса, позже донимал Гиммлера необходимостью физического устранения фюрера, постоянно сбегал в Европу якобы на переговоры и наконец окончательно засел в Дании, интригуя шведов и англичан секретом партийного золота, к которому допущен не был и т. д. и т. п.; к тому же в марте и апреле 45-го Шелленберга в Берлине не было.
Та же история и с некоторыми другими персонажами знаменитой экранизации романа Семенова – повторяю, к сожалению, они получились именно такими, какими описали себя сами. Но создатели фильма в этом не виноваты, они с максимальной отдачей использовали то, что смогли получить.
Меня много раз спрашивали, что мне видится наиболее далеким от исторической реальности в «Семнадцати мгновениях». Я повторю и теперь – общая атмосфера. В фильме время как будто открутили назад примерно на полгода, не меньше. Подлинная атмосфера в Берлине после провала февральского контрнаступления была совершенно иной – на грани истерики! Шелленберг, в халате, не выходил из спальни – все это охвостье Гитлера ночевало в личных бомбоубежищах; Мюллер, бросив семью в Мюнхене, засел в Бергхофе, занимаясь чисткой переправленных туда архивов, а в апреле 1945-го, если верить показаниям бывшего камердинера Гитлера Гейнца Линге вообще исчез и появился только 1 мая, видимо, надеясь присоединиться к группе Бормана… Гиммлер… С Гиммлером отдельная история, зимой 1945 года он начал энергично «болеть» и отлеживался по разным клиникам и поместьям, во всяком случае, той весной его в Берлине не было.
Тем не менее фильм «Семнадцать мгновений весны» художественно самодостаточен и критиковать его я не хочу.