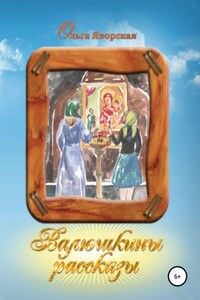Прекрасный августовский день 1818 года. Сияющее солнце, сверкающее море. Рано утром они вдвоем взошли на борт в Вике на острове Рюген, разместили багаж и художественные принадлежности Фридриха на маленьком паруснике и беззвучно заскользили по сонному заливу, оставили справа светло-зеленые буковые рощи Хиддензее, после чего взяли курс на Юг, на Штральзунд. С востока, с пологих холмов Рюгена, с его древних курганов веет теплый ветер, наполняющий паруса, заставляющий снасти напрягать свои мускулы. Ах, как он любит этот момент, когда большие льняные паруса вдруг громко натягиваются, а судно как по волшебству начинает двигаться. Разве человеческий гений, спрашивает он себя, создавал когда-либо что-то прекраснее этого? То же самое он собирается делать, вернувшись в Дрезден, – так же незаметно оживлять холст своей кистью, как ветер оживляет паруса. Лина нарушает ход его мыслей. «Гляди, Каспар, – говорит она, – гляди же, там, у отмели, ты видишь тюленей, вылезающих на берег?» «Извини, Лина, – отвечает он со смущенной улыбкой, – прости меня, пожалуйста, я совсем погрузился в свои мысли».
На дворе 11 августа 1818 года, они провели на Рюгене свой медовый месяц – он, чудаковатый сорокачетырехлетний художник из Грайфсвальда, и она, двадцатипятилетняя жительница Дрездена. На паруснике тихо, иногда сверху доносятся сильные взмахи крыльев и крики чаек, иногда до них долетает морская пена и на пышных рыжих бакенбардах Фридриха еще какое-то время блестят соленые капли. До этого путешествия Лина никогда не ходила по морю, ей было страшно, но если уж погибать, то лучше всего с ним, сказала она, да, она действительно так сказала. Каспар Давид Фридрих не верит своему счастью. «Как же я нашел тебя?» – шепчет он, сжимая ее руки. «Любовь – занятная штука», – писал он своему брату Кристиану, когда скоропостижно женился. «А Лина, провинциалка, – продолжал он, – очень даже пристрастилась к померанской [1] селедке, которую брат присылает молодоженам из Грайфсвальда». Да, с тех пор, как его «я» превратилось в «мы», в его дрезденской квартире многое изменилось. Ну и пусть, что ему пришлось убрать расставленные повсюду плевательницы, потому что она против, зато в остальном: «Мы больше едим, больше пьем, больше спим, больше смеемся, больше лепшуем»[2]. Да, лепшуем, он так и написал, что бы это ни значило, но в любом случае в следующем году у них рождается первый ребенок.
Почти весь день длится их поездка на паруснике по блестящей воде залива, которая кажется то темно-синей, то лазурной. Фридрих не может насмотреться, его глаза живописца вбирают всё – лодки, снасти, мачты, хлопающие паруса, береговые линии слева и справа, ярко-зеленые деревья на утесах. Когда волшебный августовский день начинает угасать, дощатая палуба под их ногами еще хранит тепло солнечных лучей, им не нужно кутаться в плащи или платки. Из вечернего сумрака перед ними выплывает Штральзунд, как видение. Лина по-праздничному закалывает волосы. В красноватом свете заката поднимаются городские башни, их парусник тихо приближается к ним, Фридрих преисполнен благоговения, Лина, как ему кажется, тоже. «Этот момент я обязан написать, – думает он, объятый душевным пламенем. – Может быть, да, может быть, я впервые в жизни по-настоящему счастлив, вода подо мной, земля передо мной, воздух вокруг меня, моя рука в ее руке».
«Может быть, – спрашивает вдруг Лина, – сегодня в Штральзунде съедим на ужин не рыбу, а что-то другое?»
![]()
Огонь – Каспар Давид Фридрих, «Горящий Нойбранденбург» («Das brennende Neubrandenburg»), ок. 1835/40 (bpk / Hamburger Kunsthalle / Elke Walford)
Теплая ночь начала лета, небо как раз меняет цвет с глубокой синевы на нежный светло-желтый, а соловьи в кустах сирени поют свою последнюю песню. И тут Мюнхен вдруг начинает светиться: из огромного Стеклянного дворца[3] высоко вверх вырываются алые языки пламени, отблески огня освещают фасады домов на ближайших улицах, Софиенштрассе и Элизенштрассе, кажется, что пылает весь небосвод. Тишину прерывает оглушительный треск лопающихся металлических конструкций и разлетающихся стекол, которые с грохотом падают в огненное жерло.
Раннее утро 6 июня 1931 года. Всё, что Каспар Давид Фридрих так любил, сгорело при пожаре в мюнхенском Стеклянном дворце: картина с каменистым «Балтийским берегом», его любимым местом; «Гавань в Грайфсвальде», образ родного города, по которому он так тоскует (Sehnsucht)[4]; будничный взгляд из окна своей квартиры, запечатленный на картине «Мост Августа в Дрездене», и, что особенно больно, полотно «Вечерний час», на котором его жена Лина и дочь Эмма, умиротворенно обнявшись, смотрят из окна в теплую саксонскую ночь начала лета. Пламя жадно пожирает сухое дерево подрамников, а остатки холстов взлетают, кружась, в ночное небо в виде черного пепла, горячие волны огня поднимают их всё выше и выше, пока глаз не теряет их из виду.