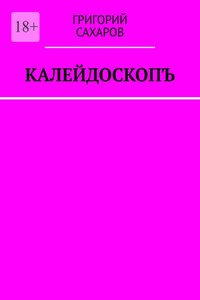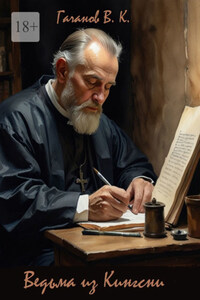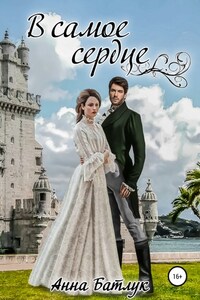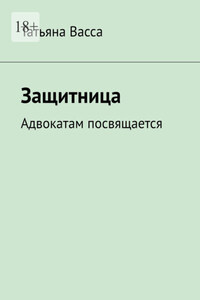(Самоходкой уничижительно называли на Руси девушку, вышедшую самовольно замуж вопреки воле родителей.)
1.
– Эх не сидится тебе, девка! Самоходкой* пошла! Позорище-то, позорище како-о-о-е… – выла Матвеевна, уже лет десять как честная вдова с семью детьми.
И вот теперь её старшенькая Манька, прельстившись заезжим каторжанином, собирала в узелок свои нехитрые пожитки.
– Мама! Да какой же он каторжанин?! Он не уголовник какой, а политический, понимаешь, политический! В Питер с ним еду, в столицу!
– Ох, горюшко моё… Да ить он – безбожник! Да как можно-то невенчанной! Ведь грех-то како-о-ой… – продолжала причитать мать, пытаясь вытащить узелок из цепких рук Маньки: – Забил он тебе головушку! Забил, очаровал, окаянный! Новым этим сатанинским! Отдай, отступись, говорю! – Наконец, Матвеевна так дёрнула узелок, что он оказался в её руках. Манька, не удержав равновесия, повалилась на лавку, больно ударивших о край спиной.
– Да и подавитесь Вы! Да и так уйду, как есть! – И Манька, держась за спину, другой рукой прихватила у двери свой полушубок, прыгнула в валенки и, хлопнув дверью, выскочила из избы, оставив воющую мать с бесполезным узелком в руках.
«Каторжанин» этот появился в их селе около года назад. Был он лет тридцати, невысок, крепок в плечах, всегда чисто брит и острижен. Большее время он молчал, смотрел внимательно из-под густых бровей. От этого взгляда людям было не по себе, он как бы говорил: «Я-то знаю самое главное, а вы, голубчик, этого не знаете». Другими словами, было в нём какое-то глухое превосходство, сильное, глубинное, которое давило и не давало рядом с ним никому быть свободным. Его сторонились, недолюбливали и немного боялись.
Никто не понимал белобрысую Маньку, которая втюрилась в «каторжанина» с первого взгляда и бегала за ним как собачка, таская из дома в его постой то горячей картошки в сметане, то жареной щуки и прочую снедь, зачастую отрывая от своей доли. Или, как бы это сказать, недоедала сама, потому что семья безотцовная была большая и достатка не имела никакого. Хозяйка постоя при виде раскрасневшейся Маньки с очередным гостинцем в руках поджимала губы, сокрушенно качала головой и молча отходила от двери, ведущей в комнату каторжанина, сложив на груди руки. В этот же день, а если поздно было, то и назавтра она, прийдя на беседу к очередной товарке, оговаривала Маньку: «Глянь-ко, сама-от голытьба голытьбой, а басурманину энтому таскат еду разну. Небось от сиротиночик отрыват недоумка-девка. Ищо и в подоле притащит, ей-бо, притащит».
– Матвеевна ей притащит за вихры, за вихры! Сама-от Матвеевна-то чесна вдова, себя блюдёт, а энта сама повешалась мужику на шею. Позорище. Тьфу! – Так порой и мыли бабы Манькины косточки. Однако оговаривать самого каторжанина побаивались, мало ли…
В русском человеке, известное дело, если чего не понятно, то лучше обождать, рассмотреть со вниманием, а уж потом и склочничать. Бывают, однако, и смельчаки на такой счёт, сразу высказываются. Ну да веры таковым особенной не было, хотя могли и поддакнуть, так, вежливости и порядка ради.
Между тем, у каторжанина заканчивался в начале весны срок поселения, и он, сжалившись над бестолковой Манькой, решил всё же взять её с собой в Петербург в качестве помощницы по хозяйству, ну и для других редких интимных вещей. Дело в том, что Ефим (так звали «каторжанина») свято верил в то, что при светлом будущем, которое он и его товарищи по партии саможертвенно желали построить, всё будет общее, и жёны, разумеется, тоже. Он скупо и, как ему показалось, очень доходчиво разъяснил это Маньке. Манька головой кивнула, а про себя подумала, что подурит и перестанет, а там, глядишь, детишки пойдут и под венец согласится, и вся эта дурь у него из головы как-нибудь растечётся.
У избы, где проживал во время своей ссылки Ефим, уже стояла гнедая кобылка, запряженная в сани. Транспорт этот нанял сам каторжанин ещё неделю назад, уговорившись с Васьком, братом хозяйки, который уже месяц как вернулся с отходных работ и перебивался случайными приработками. Мужик он был холостой, невидный, росту плюгавенького и лыс, как колено. Кроме того, не имел пяти передних зубов, которые ещё в юности ему выбили в драке на Прощёное воскресенье.
2.
Васёк был постоянно чем-то недоволен, поэтому поносные слова Ефима в адрес царя и всё его правительство, падали на благодатную почву. Васёк даже реже стал ходить в церковь к обедне, вспоминая, что Ефим ругал попов, называя их кровопийцами, будто они только наживаются и дурят простой народ. И всё же внутри Васька что-то останавливало от того, чтобы уж совсем-то сказать, что Бога нет.
С каждым годом слабее, а всё же и до сих помнил он, как подростком заблудился в лесу. Пошел за груздями, а посерело, дождь пошёл, Васёк солнце потерял и пошёл выходить в другую сторону. Так промёрз за ночь, клацая зубами от холода, молил святого Николу, чтобы помог выбраться. А утром, как рассвело, всё та же серь, никак не понимал куда идти. И тут услышал, как будто конь ржёт. Подхватился, грузди все из корзины опрокинул наземь и помчался в ту сторону. Временами исчезал звук, потом снова начинался, словно как убегает от него лошадь эта. Через час такого бега вынесло его на опушку, а внизу и сельцо их лежит. Да вынесло со стороны старого оврага, куда сроду никто не хаживал.